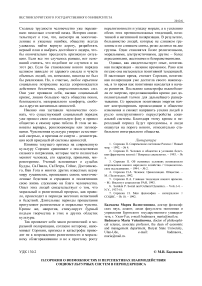П.Сорокин о возможностях и перспективах взаимодействия социокультурных систем в период кризиса
Автор: Бадмаева Мария Валентиновна
Журнал: Вестник Бурятского государственного университета. Философия @vestnik-bsu
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 6, 2012 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются некоторые аспекты теории конвергенции социокультурных систем П. Сорокина, представляющие особый интерес в период преодоления кризисных явлений в обществе.
П. сорокин, социокультурная система, социальный кризис, теория социокультурной конвергенции
Короткий адрес: https://sciup.org/148181139
IDR: 148181139 | УДК: 130.2
Текст научной статьи П.Сорокин о возможностях и перспективах взаимодействия социокультурных систем в период кризиса
Интерес к научным и теоретическим идеям П.Сорокина обусловлен, с одной стороны, его статусом одного из основателей теоретической (научной) социологии ХХ века, а с другой – необходимостью поиска выхода культуры (и науки) западной цивилизации из постоянно углубляющегося кризиса, охватившего все сферы западного общества, а с распространением их достижений и всю планету во второй половине ХХ века – все человечество. Нет сомнения в том, что социально-философские идеи Сорокина могут и должны оказать помощь в осмыслении той ситуации, в которой оказалось мировое сообщество сегодня. Значимость исследования его социально-философских воззрений вызвана во многом тем, что он в оборот своих научных исследований включил всю мировую социокультурную историю человечества. С этих позиций чрезвычайный интерес вызывает его понимание идеи конвергенции существенно различающихся социально-культурных и социальнополитических организмов, интенсивно разрабатываемой в рамках формирования глобальной цивилизации, во многом сводящей к единому основанию культуры Востока и Запада.
Социокультурную конвергенции Сорокин рассматривает в качестве радикального и естественного средства преодоления социального кризиса, а также еще одного доказательства формирования нового интегрального социокультурного порядка.
Конвергенция, по мысли Сорокина, выполняет функцию защитного механизма, который предохраняет социокультурную общность от полного разрушения и предоставляет возможность для дальнейшего существования и полноценного развития, но уже в трансформированном виде.
Теория социокультурной конвергенции родилась под влиянием обострения отношений между СССР и США, а также сближения куль- тур Востока и Запада и впервые увидела свет в опубликованной книге Сорокина «Россия и Соединенные Штаты», которая вызвала у читателей немалое удивление. Она была написана в переломный момент второй мировой войны и содержала обращение к руководителям двух держав. Сорокин проводил сопоставительный анализ истории стран России и США, общего и различного в эволюции двух народов, их культур, их социальных, политических и других институтов; проанализировал он также и наличие общих жизненных интересов и оснований для сотрудничества и выгодной кооперации. «Моя книга «Россия и Соединенные Штаты» была написана под влиянием второй мировой войны и ее последствий… Написав эту книгу, я пытался убедить оба государства и их лидеров продолжить взаимовыгодное сотрудничество и задуматься о страшных последствиях, к которым приведет отход от сотрудничества к политике конфронтации «холодной» и «горячей» войн. Хотя книга привлекла к себе значительное внимание, мои советы и предостережения в большинстве своем остались не услышанными, особенно политическими деятелями и власть имущими обеих сторон...
После начала этого конфликта самоубийственная политика обоих государств, а позднее обоих военных блоков становилась все более гибельной, разрушительной и катастрофичной по своим последствиям, пока не поставила под вопрос само выживание всего человечества. Всеобщая гибель в огне угрожает теперь каждому из нас. И огонь этот может вспыхнуть в любой момент»[1, с. 213].
Книга была новаторской, и даже заговорили о нарождении новой отрасли: социологии «русско-американских отношений». Но по-настоящему тема стала актуальной спустя почти сорок лет.
В 1960 году состоялся XIX Международный конгресс социологов в Мехико, где Сорокин представил эссе под названием «Взаимное сближение Соединенных Штатов и СССР в смешанный социокультурный тип» [2, с. 143176]. Американское издание «Сент-Луис глоб демократ» дало такую рецензию: «Сорокин предпринимает попытку, поистине достойную Линкольна, найти общую почву для понимания как основу для того, чтобы был и сохранился мир во всем мире» [3, с. 98]. Требовалась определенная смелость, чтобы в конце 50-х годов отважиться на открытое и публичное сомнение в принципиальной несовместимости коммунизма и капитализма.
Выбор Сорокина пал на эти две великие державы не случайно. Во-первых, являясь по сути самыми большими не только по территориям, но и по своей внутренней мощи, а соответственно и по своему авторитетному влиянию на другие державы-сателлиты, обе страны в состоянии подчинить себе и изменить ход мирового процесса.
Во-вторых, имея огромный набор сходных предпосылок развития, страны являются наиболее характерными выразителями двух различных форм общественного строя – капитализма и социализма, которые начинают испытывать кризис, а значит, нуждаются в обоюдном дополнении и стремлении к некому промежуточному типу. Великолепно понимая, что полноценная интеграция возможна между родственными культурными социосистемами, Сорокин приводит громадное количество аргументов, свидетельствующих о сходстве двух стран.
Фундамент теории конвергенции Сорокин строит, исходя из близости русской и американской ментальности, систем ценностей русского и американского народа, из сходства права, образования, искусства, досуга, науки, а также из усиливающегося взаимного движения двух стран навстречу друг другу. В книге «Россия и Соединенные Штаты» он настаивает на том, что, «фактически США и Россия проявляют существенное сходство или сродство в ряде важных психологических, культурных и социальных ценностей. Эти сходства полностью уравновешивают различия. Поэтому они до сих пор функционировали и функционируют как благоприятные факторы в истории нерушимого мира между странами, о которых идет речь» [3, с. 42].
Характеризуя СССР и США, Сорокин отмечает географическое положение и размер двух стран, то, что обе страны фактически являются континентами, имеют огромные залежи полез- ных ископаемых, которые способствуют их экономической независимости, обе обладают широким многообразием флоры и фауны, сходством климатических и географических условий.
Эти факторы одинаково влияют на особенности ума, культуры и социальной организации жителей двух стран. В национальном и международном плане страны выступают в роли сильных и независимых держав, что коренным образом отличает их поведение от малых государств, и ни одно изменение в международной жизни не может происходить без участия державных авторитетов. Обе великие державы окружены «государствами- сателлитами» и «сферами влияния» для обеспечения безопасности и укрепления своего образа жизни. В социальном и культурном отношении статус великих держав предопределяет их стремление к превосходству в достижениях в литературе и драматургии, музыке и изобразительном искусстве, философии и религии, юриспруденции, экономике, науке и технике.
«Единство в разнообразии» – так определяет Сорокин другую важную черту, на основе которой впоследствии он выделил целый ряд сходств: «... и та и другая страна представляют собой тигель, в котором плавятся различные расовые, этнические, национальные и культурные группы и народы. Этот факт придает этому сплаву народов, складу ума и культуры большее разнообразие и богатство, чем проявляет какая-либо одна из составляющих его этнических групп, так как каждая из многочисленных национальностей и рас вносит свой особый вклад в общую культуру нации. Пример Соединенных Штатов и России представляет собой прямое утверждение, что единство в разнообразии не только возможно, но и является крепким, созидательным и нерушимым, как и единство любого общественного органа, включающего в себя только одну расовую или этническую группу» [3, с. 46].
Невозможно не согласится с этим утверждением, но здесь замечу, что Сорокин в данном случае не принимает во внимание тот факт, что Россия живет и всегда жила по принципу терри-торально-национального объединения, в отличие от Соединенных Штатов, где не существует выраженного принципа национального расселения. В нашей стране каждый народ имел и имеет культуру, построенную на основе национальных и исторических традиций, которые складывались веками и которые в большинстве своем характерны для районов проживания данной народности. Культура же Соединенных Штатов
Америки представляет собой унификацию культур разных народов, в ней почти невозможно выделить характерные особенности той или иной нации.
Еще одно важное сходство Сорокин видит в сравнительно мирном образовании держав: «... экспансия в обоих случаях достигалась не столько посредством военной силы, сколько путем добровольного подчинения племен и народов и путем мирного проникновения первопроходцев – преимущественно крестьян и фермеров, исследователей, торговцев и миссионеров. Создание обеих империй происходило сравнительно мирно: было пролито мало крови, было мало принуждений и жестокости... Только в незначительной степени эта экспансия была достигнута путем военного завоевания... Никогда не существовало какой бы то ни было расовой дискриминации» [3, с. 70].
Что касается последнего утверждения, то не следует забывать, на наш взгляд, что покорение земель предками современных американцев закончилось почти полным истреблением коренного населения Америки – индейцев, а оставшиеся в живых были согнаны в резервации. В американском обществе существовала и существует ярко выраженная проблема расового неравенства. Даже сегодня проводимая в США политика в области национального вопроса оценивается крайне неоднозначно.
Иная ситуация складывалась в России. В книге «О русской нации…» Сорокин постарался дать беспристрастный анализ истории становления Российского государства, истории сосуществования различных народностей на территории страны и проанализировал роль, которую сыграло содружество наций в борьбе против постоянных военных завоеваний России. Питирим Сорокин говорит здесь об относительно мирной экспансии русских на Востоке Сибири и в Средней Азии. Эти земли, отмечает ученый, входили в состав России, сохраняя свою национальную независимость, поэтому вопрос о расовой дискриминации абсолютно неуместен в связи с тем, что каждая народность сохраняла исторически сложившуюся национальную территорию проживания. Словосочетание «сплав народов», употребляемое Сорокиным для характеристики США и России, очень удачно подходит к США: там население страны, состоящее в основном из пришлых переселенцев Старого Света, действительно складывалось в некое единство. В отношении России больше подошло бы такое определение, как «сообщество этнических групп». В него входит более ста пятидесяти этносов, сосуществующих бок о бок, так как степень на- циональной интеграции в стране не так велика, как в США.
Следует учитывать и тот факт, что многие народы, присоединяясь, искали в России военную защиту и экономическую поддержку. «Русская нация – писал Сорокин – является поистине строителем великой империи, ибо она была создана не только в исключительно неблагоприятных условиях, когда приходилось преодолевать нечеловеческие трудности, но и с минимальной жестокостью, порабощением или истреблением по отношению к коренным группам» [3, с. 44]. Здесь уместно напомнить, что Россия все же имела национальные конфликты на Северном Кавказе, в 20-е годы вооруженные конфликты в Средней Азии, извечные проблемы с Прибалтикой, многочисленные конфликты на национальной почве в наши дни. Увы, социолог не мог предполагать, что вопрос национального неравенства еще не раз возникнет с большой остротой на его прежней родине. Тем не менее, Сорокин был прав, видя сходство обеих держав в многонациональности населения.
В главе «Сходство психического склада русских и американцев» Сорокин отмечает позитивный характер социопсихологической характеристики обоих народов, что делает их отношения более родственными, по сравнению с теми отношениями, которые поддерживает каждый из этих народов со многими другими народами. К сходным чертам американцев и русских Сорокин относит трезвость в рассуждениях, уравновешенность, рациональность, практичность и т.д.
Первое место среди этих общих черт занимают: «Свобода от строгих мононационалисти-ческих традиций и социально-культурных норм, откровенность и широта умственного кругозора, космополитизм и чувство собственного достоинства, без принижения других или без какой бы то ни было предрасположенности к претензии на Богом данное превосходство над «низшими» группами. Эти качества способствуют независимости мысли, терпимости к мнениям, поведению и обычаям других, а так же экспериментальному складу ума, который стремится установить истинное достоинство самых различных идей и ценностей, независимо от их источника» [3, с. 70]. Питирим Сорокин делает вывод, что эти общие черты двух наций являются преимущественно результатом вышеупомянутого разнородного их состава, в сочетании с их «единством в разнообразии». И хотя каждая из этих расовых, этнических и национальных групп имеет свою особую психологию, культуру и нравы, они не являются взаимоисключающи- ми, благодаря их постоянному взаимодействию. Речь идет о беспредельной терпимости и уважении русскими и американцами разнообразных чуждых им систем нравов, национальных традиций других народов, стилей характеров, к неправильному и искаженному употреблению русского и английского языков и т.д.
Необходимо, на наш взгляд, отметить также еще одну общую особенность: наличие национальной идеи, национального идеала, на что еще до П.Сорокина обращали внимание славянофилы в начале XIX века. Обратимся к словам И.В. Киреевского, высказанным им в «Обозрении Русской словесности за 1829 год»: «Изо всего просвещенного человечества два народа не участвуют во всеобщем усыплении, два народа молодые и свежие, цветут надеждой: это Соединенные Штаты Америки и наше Отечество» [4, с. 18]. Национальные смыслы для США аккумулированы в Американской мечте, для России – в Русской идее. Русским так же, как и американцам, например, свойственна прагматичность и предприимчивость. Но Россию, помимо этого, отличает традиционная община с ее коллективизмом и взаимопомощью, чего почти нет в американском обществе. Генетически Русь – страна Православия, где такой прагматизм, как в США, просто невозможен.
В этой же главе Сорокин проводит сравнительную аналогию между культурами обеих стран. Русский стиль в какой бы то ни было важной культурной сфере – это единство, уникальный синтез русской самобытности с привнесением различных европейских и азиатских элементов. Причина такого сочетания заключается в особенностях географического положения России. С XVII века Россия начинает активно перенимать ценности европейской культуры. Русскую культуру можно сравнить с полноводной рекой, в которую вливаются многочисленные ручейки (элементы) европейских и азиатских культур. Эти элементы не механически смешаны, а органически слиты в единое целое. Имея в своей основе мощные национальные русские корни, русская литература, живопись, музыка и архитектура несут в себе также сочетание характерных для Азии и Европы культурных черт.
Сходную картину мы наблюдаем и при анализе культуры США. Культура этой страны представляет органичный сплав культур различных народов, которые приехали из Европы и Африки. Привезенные поселенцами разные варианты культур создали единую унифицирован- ную американскую культуру, не похожую ни на одну мировую культуру.
По мнению Сорокина, русская православная религия проявляет такой же универсальный характер: в своем глубоком рационализме она отражает Западное христианство, в то время как в своем глубоком мистицизме она напоминает Византийское и Восточное христианство. «Всеобщая любовь и братство, понимание реальности как бесконечного разностороннего проявления божественности стали основным лейтмотивом философии, этики и религии России. Кодексы российских законов всегда носили «универсальный характер» в том смысле, что они органически вобрали в себя основные ценности самых разнообразных обычаев и общеправовых систем различных народов, а также официальные юридические системы Востока и Запада» [3, с. 72].
Сорокин восторженно отзывается о широте русского кругозора: «Россия перевела, опубликовала, вобрала в себя и внимательно оценила по достоинству литературные, художественные, философские, религиозные, этические, схоластические и научные работы иностранных авторов, вероятно в более широком масштабе, чем какая бы то ни было другая страна. Таким образом, значительная часть наиболее ценных работ в этих областях – американских, французских, немецких, английских, голландских, испанских, итальянских, китайских, индусских, и т.д. – стала более известна просвещенным русским, чем интеллигенции других стран. Этим объясняется часто наблюдаемый факт широкого кругозора просвещенных русских и важное значение культурного вклада России в сферу литературы, философии, науки. Россия знала больше о творениях мировой культуры, чем знала любая зарубежная страна как о русской культуре, так и об иностранной культуре вообще. Поэтому она оставалась загадкой для чужеземцев, в то время как зарубежные культуры отнюдь не составляли тайны для нее» [3, с. 72].
В несколько иной форме это характерное стремление к универсальности пронизывает и американскую культуру. Соединенные Штаты «поглощали» культурные ценности других стран (Латинской Америки, Европы, Азии и Африки) в таком объеме, какой можно сравнить только с Россией. В этом отношении Сорокин подчеркивает поразительное сходство между двумя странами.
В качестве еще одного свидетельства близости России и США социолог приводит свидетельства о взаимном влиянии двух этих культур друг на друга. Он считает, что взаимопроникновение их культурных ценностей было всеохватывающим и плодотворным: каждая из культур обогатила другую в гораздо большей степени, чем это осознает большинство людей.
Опираясь на данные положения, Сорокин призывает к тому, что надо стремиться к установлению нормальных отношений между двумя великими государствами. Нет весомых оснований для враждебности между русскими и американскими народами. Напротив, есть серьезные экономические, политические, экологические, духовно-культурные и иные предпосылки для дружбы. Сорокин считает, что в сфере науки между странами нет и не может быть конфликтов, несовместимых интересов.
На выявленном сходстве между Россией и Соединенными Штатами, построенном на подобии географических, климатических и исторических условий развития, психологических особенностях наций, синтезе культур и на отсутствии серьезных причин для разногласий, Сорокин строит свою теорию социокультурной конвергенции двух наций, предполагая в будущем возможность появления тенденции к сближению двух социальных систем с их последующим синтезом в некое «смешанное общество».
Несмотря на большие жизненные коррективы, его теория социокультурной конвергенции остается актуальной и сегодня. Интересно привести небольшой фрагмент из американской газеты «Нью-Йорк таймс», где корреспондент Джон Чемберлен пишет: «Удивительно достоверная и беспристрастная книга о советско-американских отношениях, в прошлом, настоящем и будущем подтверждает растущее убеждение среди американцев доброй воли, что для нас сотрудничество с Россией после войны не только возможно, но и желательно… Книга «Россия и Соединенные Штаты» несет в себе важное содержание» [3, с. 98].
Бывший посол в Советском Союзе, автор работы «Миссия в Москве» Джозеф Э. Дэвис так отозвался о взглядах социолога: «Могущественное произведение Питирима А.Сорокина «Россия и Соединенные Штаты» – это хорошо сба- лансированный и исключительно научный, определенный вклад – причем наиболее ценный – в сохранении тех политических отношений России и Соединенных Штатов в будущем, которые так жизненно важны для какой бы то ни было формы «более примечательной послевоенной перестройки в пользу мира», в которой так нуждается человечество» [5, с. 7].
Известный исследователь творчества П.Сорокина В.А. Медведев назвал теорию конвергенции одним из крупнейших научных достижений П.Сорокина. «В условиях острейшей конфронтации на мировой арене это была смелая постановка вопроса, идущая по существу вразрез с официальной идеологией как того, так и другого из враждующих блоков. Она оказала огромное влияние на общественную мысль во всем мире, в том числе и в России. Достаточно напомнить, что ее приверженцем в России стал академик Сахаров [6, с. 299].
Таким образом, социокультурная конвергенция, задуманная как теория для объяснения процесса взаимодействия культур, и сегодня сохраняет свою эвристическую ценность для современной социальной философии.