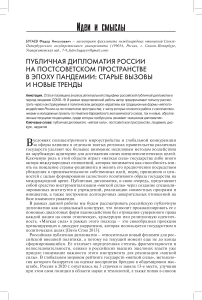Публичная дипломатия России на постсоветском пространстве в эпоху пандемии: старые вызовы и новые тренды
Автор: Бугаев Федор Николаевич
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Идеи и смыслы
Статья в выпуске: 5, 2021 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена анализу региональной специфики российской публичной дипломатии в период пандемии COVID-19. В рамках представленной работы автор предпринимает попытку рассмотреть через конструируемые в политическом дискурсе нарративы как традиционные формы «мягкого» воздействия России на постсоветском пространстве, к числу которых относится работа с соотечественниками и молодежные проекты по тематике Евразийского экономического союза, так и новые, обусловленные текущими тенденциями, среди которых особую роль занимает «вакцинная дипломатия».
Публичная дипломатия, "мягкая сила", постсоветское пространство, пандемия, дискурс, нарратив
Короткий адрес: https://sciup.org/170191540
IDR: 170191540 | DOI: 10.31171/vlast.v29i5.8547
Текст научной статьи Публичная дипломатия России на постсоветском пространстве в эпоху пандемии: старые вызовы и новые тренды
В условиях полицентричного мироустройства и глобальной конкуренции за сферы влияния в отдельно взятых регионах правительства различных государств уделяют все большее внимание несиловым методам воздействия на зарубежную аудиторию для достижения своих внешнеполитических целей. Ключевую роль в этой области играет «мягкая сила» государства либо иного актора международных отношений, которая понимается как способность влиять на поведение страны-реципиента и менять его предпочтения посредством убеждения в привлекательности собственных идей, норм, принципов и ценностей с целью формирования целостного позитивного образа государства на международной арене. Публичная дипломатия, в свою очередь, представляет собой средство инструментализации «мягкой силы» через создание специализированных институтов и учреждений, реализацию совместных программ и инициатив, а также построение долгосрочных доверительных отношений на базе взаимного уважения.
В рамках данной работы мы будем рассматривать российскую публичную дипломатию как социальный конструкт, что позволит проанализировать ее с помощью диалоговых форм взаимодействия без отрицания суверенного права каждой нации на свою этническую, культурную или религиозную идентичность. «Мягкая сила» в рамках этого подхода – это своеобразная проекция превалирующих в дискурсе нарративов, которая используется государством в политических целях [Davis Cross 2013].
Российская публичная дипломатия – относительно новый феномен для российской внешней политики, а потому на текущий момент еще не до конца сформировавшийся. Ее отличает определенная степень фрагментарности и непоследовательности, однако в российских высших эшелонах власти уже пришло понимание важности этого инструмента для реализации «мягкой силы». В глобальном мировом рейтинге государств «мягкой силы», методология которого базируется на оценке восприятия брендов в общемировом масштабе, Россия в 2020 г. опустилась на 3 строчки и заняла 13-е место, улучшив при этом свои позиции в области науки и технологий, а также попав в список стран с наибольшим потенциалом soft power1. Безусловно, любые оценки акто- ров по этим показателям носят субъективный характер, но, к примеру, значительно возросший индекс России в рейтинге по направлению «образование и наука» свидетельствует об успехах нашей страны в разработке и распространении вакцин от COVID-19.
Пандемия коронавирусной инфекции в принципе значительно трансформировала внешнеполитический ландшафт, став катализаторам закрытия границ, ограничения мобильности граждан, а также отразила имеющиеся проблемы в области гуманитарного сотрудничества государств, проверив на прочность сплоченность интеграционных объединений и способность стран найти своевременный ответ на новый глобальный вызов. В подобной атмосфере осуществлять публичную дипломатию в прежнем виде было затруднительно: любые очные проекты и программы либо были отложены на длительный срок, либо переведены в онлайн-режим, а суть тех же образовательных обменов заключается в полном погружении в среду того государства, где осуществляется обучение, что в эпоху пандемии стало невозможным. Вместе с тем в 2020 г. заговорили о новых формах и подвидах публичной дипломатии, благодаря которым Россия сумела улучшить свой образ на мировой арене. В частности, впервые появился термин «вакцинная дипломатия», под которым подразумевались не только активные научные разработки средства от COVID-19, но и его открытая продажа по символической цене другим странам, в чем Россия, вне всяких сомнений, преуспела. Наша страна первой в мире зарегистрировала новый препарат и параллельно с масштабной внутрироссийской вакцинацией начала использовать его как геополитическое средство повышения собственного имиджа. Наибольший интерес вакцина вызвала у ближайших стратегических партнеров России, членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) – Белоруссии, Армении, Казахстана и Кыргызстана. Договоры поставок с этими странами заключены, а в ряде случаев уже осуществляются. По политическим причинам от закупок российского препарата отказались Прибалтийские государства (как члены Евросоюза), Украина и Грузия. Любопытен кейс Республики Молдова: ее многовекторность проявилась даже в этом вопросе, в связи с чем Кишинев заключил соглашения с производителями сразу трех разных вакцин, в т.ч. и российской. Большая партия препарата отправится также в Узбекистан, хотя эта страна успешно разрабатывала собственную вакцину совместно с Китаем, однако производственных мощностей для обеспечения всего населения там пока недостаточно. Таким образом, Россия открыта к сотрудничеству и взаимодействию с государствами постсоветского пространства в сфере «вакцинной дипломатии», а цена на препарат (одна из самых низких в мире) отражает стремление нашей страны действовать исходя не из эгоистических национальных интересов, а из попытки сплотиться в борьбе с общей угрозой. Тем не менее информационная кампания, сопровождавшая весь вышеописанный процесс в русскоязычной прессе, была достаточно агрессивной и нацеленной на дискредитацию иностранных препаратов через артикуляцию их недостатков. Отметим, что эта тенденция была не менее очевидна и за рубежом: «вакцинная дипломатия» подразумевает жесткую конкуренцию, и страна происхождения препарата в данном контексте для подавляющего большинства игроков будет иметь первостепенное значение, порой даже затмевая качественные характеристики. Россия достойно демонстрирует свои сильные стороны через доступные каналы коммуникации, а публикации в высокорейтинговых медицинских журналах (например, в Lancet) результатов исследований повышают уровень доверия к российской вакцине даже среди заядлых скептиков [Бурлинова 2021: 26].
Важным нарративом российской «мягкой силы» на постсоветском пространстве является также дискурс об общем историческом прошлом, особое место в котором отводится победе в Великой Отечественной войне. В 2020 г. традиционный парад, посвященный 75-летию Победы, состоялся даже в тяжелейших условиях пандемии коронавируса. В контексте данной работы примечателен состав иностранных гостей, изыскавших возможность его посетить: в Москву приехали делегации от Белоруссии, Узбекистана, Молдавии, Таджикистана, Казахстана и Киргизии, а также представители Абхазии и Южной Осетии1. В очередной раз подчеркнем, что Евразийский экономический союз был представлен практически в полном составе2.
Историческая память и проблема ее сохранения являются ключевыми для деятельности российского руководства в сфере публичной дипломатии. Подавляющее большинство проектов и программ, поддержанных грантами Фонда поддержки публичной дипломатии им. А.М. Горчакова и Фонда президентских грантов, относится именно к тематике Победы в Великой Отечественной войне3. Помимо этого, одобренными оказались и множество заявок, затрагивающих сотрудничество студентов, экспертов и журналистов на пространстве ЕАЭС. Это в целом подтверждает декларируемые в официальных источниках внешнеполитические приоритеты, однако является предметом критики со стороны экспертов в области публичной дипломатии, расценивающих крен в сторону реализации совместных проектов со странами бывшего СССР как чрезмерный. Более того, существует и другая любопытная тенденция – поддержка программ, которые можно отнести скорее к области общественной дипломатии. Отличие общественной дипломатии от публичной заключается главным образом в их целях: последняя реализуется для осуществления внешнеполитических задач, а не простого диалога между гражданским обществом двух стран. Российские официальные лица также по определенным причинам склонны в своих выступлениях называть российскую публичную дипломатию «народной», что синонимично «общественной дипломатии».
Работа с соотечественниками – основное направление российской «мягкой силы», что обусловливает интерес именно к постсоветскому пространству. Тем не менее задуманная российским руководством реформа Россотрудничества, концентрирующего свою деятельность на российском (или, по крайней мере, русскоязычном) населении соседних стран, которая началась в середине 2020 г. сменой его руководителя, пока не претворяется в жизнь с должной динамикой [Бурлинова 2021: 23]. Более того, существует и другой, скорее внешний вызов, заключающийся в отказе от русского языка на официальном уровне рядом государств. Так, несколько лет назад в Казахстане было принято решение лати- низировать страну, т.е. перейти с кириллицы на латинскую письменность, что было аргументировано стремлением к сохранению казахского языка, однако этот шаг трудно вписывается в логику российско-казахстанского двусторон- него сотрудничества.
Следует отметить, что ключевая проблема российской публичной дипломатии кроется в излишней зацикленности на проблематике общего наследия: необходимо осознавать, что конструируемый в российском политическом дискурсе образ может восприниматься странами постсоветского пространства негативно в связи с возникающим представлением о России как о неоимпер-ском государстве. Исторический нарратив, который служит ресурсом российской «мягкой силы» на текущем этапе, далеко не всегда вызывает позитивные коннотации среди зарубежной общественности, поэтому не может служить ключевым при коммуникации [Борисов 2020: 137]. Акцент на соотечественниках также неоднозначен, ведь цель публичной дипломатии – не просто поддержание отношений с ними, а трансляция идей и посылов, которые должны быть восприняты в стране их пребывания высшим руководством, т.е. фактически политические цели маскируются под общественную дипломатию. В отдельных случаях это приводит к социальной стигматизации русскоязычного населения, что снижает эффективность этих проектов и программ.
Потенциал публичной дипломатии России заключается в ее нераскрытом аксиологическом компоненте. Религиозные и консервативные семейные ценности, идея евразийской экономической интеграции могли бы стать таким новым ресурсом «мягкой силы». Безусловно, необходима и масштабная институциональная реформа российской публичной дипломатии: создание централизованного органа по координации «мягкой силы» России будет способствовать снижению ее фрагментированности и хаотичности. Стратегическое планирование в этой сфере может принести гораздо большие имиджевые дивиденды даже в таком, казалось бы, традиционном для нашей страны регионе, как постсоветское пространство.
В целом, пандемия коронавирусной инфекции высветила имеющиеся проблемы и вызовы в области российской публичной дипломатии, но одновременно продемонстрировала наличие потенциала России в сфере «мягкой силы». В условиях глобальных имиджевых потерь, вызванных неудачно выбранными моделями противодействия распространению COVID-19 , которые понесли различные страны, наша страна упрочила свои позиции на постсоветском пространстве, одной из первых в мире сняв ряд ограничений, восстановив хотя бы частично авиасообщение с большинством стран СНГ, оказав необходимую гуманитарную помощь тем, кто в ней нуждался, и став, таким образом, одним из государств, наиболее быстро и успешно адаптировавшихся в борьбе с новым глобальным вызовом современности.
Список литературы Публичная дипломатия России на постсоветском пространстве в эпоху пандемии: старые вызовы и новые тренды
- Борисов А.В. 2020. "Мягкая сила": специфика отечественного понимания. - Международные отношения и мировая политика. Проблемы постсоветского пространства. № 7(2). С. 130-141.
- Бурлинова Н. 2021. Публичная дипломатия России в эпоху COVID-19. Ежегодный обзор основных трендов и событий публичной дипломатии России в 2020 г.: доклад Российского совета по международным делам. Доклад № 71/2021. М.: НП РСМД. 36 с.
- Davis Cross M.K. 2013. Conceptualizing European Public Diplomacy. - European Public Diplomacy: Soft Power at Work. N.Y.: Palgrave Macmillan. P. 1-11.