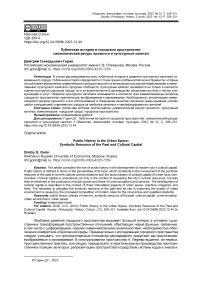Публичная история в городском пространстве: символический ресурс прошлого и культурный капитал
Автор: Горин Д.Г.
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: Культура
Статья в выпуске: 12, 2023 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается роль публичной истории в развитии культурного капитала современного города. Публичная история определяется с точки зрения особенностей ее инструментов, которые способствуют вовлечению символического ресурса прошлого в актуальные культурные коммуникации и накапливанию культурного капитала городских сообществ. Культурный капитал понимается не только в контексте оценки культурных ресурсов города, но и их вовлеченности в производство общественных благ и потоки коммуникаций и услуг. Развитие культурного капитала описывается в контексте трех взаимосвязанных аспектов городского пространства: практическом, воображаемом и проживаемом. Необходимость актуализации символического ресурса прошлого и его использования в повышении качества городской среды вызвана усилившейся конкуренцией современных городов за наиболее активных и квалифицированных жителей.
Публичная история, места памяти, символический ресурс прошлого, культурный капитал, коммуникация, городская среда, городское пространство
Короткий адрес: https://sciup.org/149144319
IDR: 149144319 | УДК: 304.4 | DOI: 10.24158/fik.2023.12.44
Текст научной статьи Публичная история в городском пространстве: символический ресурс прошлого и культурный капитал
Plekhanov Russian University of Economics, Moscow, Russia, ,
в-третьих, собственно, репрезентационные пространства, воспроизводящие символические структуры и скрытые стороны социальной пространственности (Lefebvre, 1991: 33). Рассмотрение культурного капитала современных городов в контексте этих трех аспектов пространственных отношений может способствовать более глубокому пониманию особенностей его накапливания и растраты. Многие российские города располагают значительными символическими ресурсами прошлого, однако эти ресурсы в большинстве случаев являются «спящими», а современные технологии их вовлечения в местное развитие используются редко.
Культурный капитал Д. Тросби описывает как актив, воплощающий, хранящий или обеспечивающий культурную ценность в дополнение к любой экономической ценности, которой он может обладать (Тросби, 2013: 70–73). Это определение культурного капитала позволяет концептуализировать возможности его вовлечения в развитие города на основании разделения таких его аспектов, как запасы и потоки. Первые представляют собой выражение культурных активов и их совокупную оценку, а вторые – порожденные культурными запасами потоки коммуникаций и услуг, которые могут потребляться или вовлекаться в последующее производство новых благ и услуг. В контексте названных выше трех измерений городского пространства, которое предстает как практическое, воображаемое и проживаемое, культурный капитал можно рассматривать в этих же трех аспектах: культурные запасы, воспроизводящие символический ресурс прошлого в городском пространстве, могут иметь воображаемое или реальное пространственное выражение, но, если они не вовлекаются в практики освоения городского пространства, в потоки услуг и коммуникаций, то не происходит накапливание культурного капитала и его конвертация в иные формы капитала, прежде всего, в социальный капитал, способствующий повышению качества социальной среды.
Современный город сталкивается с существенными проблемами в создании городских идентичностей своих жителей. В жизненных стратегиях современного человека меняется соотношение территориальных и экстерриториальных факторов. Возможности удаленной работы, развитие цифровой инфраструктуры бизнеса, рынка аренды жилья, более прозрачные границы – эти и другие тенденции делают человека менее привязанным к месту. Современные города вынуждены вступать в конкуренцию не только за туристические потоки и качество мигрантов из других городов, но, прежде всего, за сохранение собственного населения, наиболее активная часть которого становится более мобильной и готовой к смене места жительства. Поэтому в современных условиях, когда в городских пространствах не только реализуются различные инновации, но также возникают существенные риски, связанные с депрессивной социальной средой и неблагополучными районами, теряющими наиболее активную часть жителей, возникает проблема пространственной интеграции города на основании практического и символического освоения городского пространства как среды воспроизводства культурного капитала. Одним из методов решения этой проблемы является конструирование более качественного и символически насыщенного городского пространства, создающего уникальные смыслы жизни в конкретном месте.
В современных интерактивных и множественных публичных сферах обращение к символическому ресурсу прошлого при определенных условиях может способствовать накапливанию культурного капитала на местном уровне, способствуя повышению привлекательности городского пространства. Проекты локальной публичной истории снижают риски деградации непривлекательных районов и оттока молодых и активных жителей.
Публичная история представляет собой относительно новую область знания, которая активно институциализируется в российской практике (Всё в прошлом. Теория и практика публичной истории…, 2021). В современной литературе обсуждаются ее дисциплинарные границы, соотношение с различными формами исторического знания – академической наукой, разнообразными историческими нарративами, обыденными представлениями об истории. В условиях трансформации публичной сферы наблюдаются изменения характеристик публичного функционирования исторического знания: размываются критерии достоверности исторических фактов, меняется общественный интерес к темам и сюжетам истории, которые конкурируют с многочисленными воображаемыми сюжетами, тиражирующимися современными медиа. В этих условиях особую актуальность приобретает вопрос о том, как меняются функции публичных форм истории и как они могут способствовать конвертации символического ресурса прошлого в культурный капитал современных российских городов.
Публичная история в широком смысле включает особенности репрезентации истории в музеях и кино, публичных дискуссиях и других формах публичности1. Прошлое в публичной истории может пониматься в контексте различных форм его присутствия в настоящем, которое выражается, прежде всего, памятью и объективируется в своеобразных «местах памяти». Например, проект П. Нора «Места памяти» (Нора и др., 1999) актуализирует привязанные к пространственной среде формы коллективной памяти и вскрывает напластование различных смыслов и интерпретаций. «Места памяти» в данном случае рассматриваются как символы, способствующие поддержанию идентичности.
Однако важно иметь в виду и более узкое определение публичной истории, которое отражает особый акцент на совместных усилиях граждан и сообществ по актуализации исторического знания и интеграции его в более широкие исторические идентичности – от личных и семейных историй к истории сообществ и национальной истории. Одним из первых и наиболее известных проектов публичной истории является реализовывавшийся в Великобритании проект истории сообщества полиэтничного рабочего района Бьютаун. Это пример интеграции индивидуальных историй и истории сообщества, обретающего собственную идентичность в процессе конструирования своей истории. Результатом этого многолетнего проекта стало развитие сообщества Бьюта-уна путем инициатив в сфере совместного образования, выставочной деятельности, издания литературы. Современные проекты публичной истории позволяют поддерживать личное отношение к истории на основании интеграции историй жизни обычных людей и создании на этой основе истории городских сообществ (как, например, интерактивные проекты публичной истории, связанные с историей поколений (Саймон, 2017: 238–239).
Поворот к публичной истории связан с целым рядом тенденций, в том числе определивших трансформацию публичной сферы, которая стала множественной и интерактивной. Современные городские сообщества концентрируют в себе культурную неоднородность, они апеллируют к разным культурным контекстам, разным образам прошлого, они полирелигиозны, полиэтничны и полистилистичны. Поэтому актуализация «больших» идей в публичной сфере не только не обеспечивает устойчивости ожидаемого эффекта, но создает опасность поляризации общества и обострения культурных противоречий и конфликтов.
Предпосылки поворота к публичной истории были созданы не только трансформацией публичной сферы, они формировались и в исторической науке, в которой происходят существенные изменения, связанные с достижениями школы «Анналов» и другими тенденциями. Среди них следует назвать поворот к микроистории, который намечается в 1970-е гг. публикациями итальянских историков К. Гинсбурга и Дж. Леви в журнале «Quaderni Storici», а позже оформившимися в самостоятельную серию «Microstorie». Согласно Дж. Леви, для микроистории характерно не просто стремление к описанию мелочей, а воссоздание истории через подробное изучение единичных малых историй – посредством реконструкции жизни «маленьких людей», их биографий, жизненных и карьерных стратегий, индивидуальных практик, структур повседневности (Levi, 1992: 93–111). Микроистория рассматривает индивидуальные сюжеты не в качестве повода для создания исторического нарратива, а как смысловой его центр. Эти и другие тенденции в развитии исторической науки совпадают с общественными изменениями, вследствие которых активность человека рассматривается как значимый фактор в конструировании его собственной жизни, актуальность приобретает «теория малых дел», развиваются разнообразные формы гражданского участия.
Проекты публичной истории имеют особое значение в условиях необходимости актуализации существующих культурных запасов в преодолении кризисного состояния российских городов. Характер культурного капитала российских городов в значительной степени объясняется особенностями урбанизации, которая происходила в сжатые по историческим меркам сроки. В конце XIX в. городское население в России составляло лишь 15 %, более половины российских городов получили этот статус в ХХ в., а несколько сотен из них были созданы менее столетия назад. При этом устойчивые черты городской культуры и городского образа жизни формируются, как известно, несколько поколений. Следствием «молодости» значительной части российских городов является моноотраслевой характер их промышленного потенциала, узкая специализация, несформирован-ность городской культуры, маргинализация и криминализация социальной среды.
Публичные репрезентации исторического знания, тем более локальных историй, далеко не всегда оказываются привлекательными и тем более способными создавать культурные потоки, актуализирующие запасы культурных ресурсов. Если в XIX в. российские города описывались через призму истории сообществ городских жителей, а в первые десятилетия ХХ в. наблюдалось развитие краеведческого движения и интереса к локальной истории, то это движение фактически было разгромлено в 1920–30-е гг. В советском обществе местная история и история городов понималась, прежде всего, в контексте общих этапов и закономерностей развития страны. Истории советских городов, как правило, интегрировались в целостный большой нарратив, героями которого были известные люди, часто не имеющие прямого отношения к локальной истории конкретного города. Эта черта характерна и для значительного количества книг по истории советских городов, которые выходили в 1950–60-е гг. Такой подход к локальным историям дополняется характерным негативным отношением к провинциальности. Современным городским жителям часто бывает сложно скорреспондироваться с большими историческими нарративами, поскольку не они являются их субъектами. Публичная история создается не абстрактными силами, а личным участием, формирующим социальные связи и сообщества, основанные на агрегировании личных историй. В этом ее основное отличие от той истории, которая является предметом исторической политики. У публичной истории и исторической политики, таким образом, разные субъекты. Публичная история обладает своими инструментами, позволяющими преодолеть отчужденное отношение к истории города и способствовать развитию культурного капитала на основании вовлечения символического ресурса прошлого в потоки взаимодействий жителей города, способствуя тем самым расширению радиуса доверия и укрепляя ценности взаимности.
Пространственным основанием проектов публичной истории являются факты городской среды. Итальянский архитектор А. Росси еще в середине 1960-х гг. подверг критике тех урбанистов и архитекторов, которые полагали, что городское пространство можно сконструировать как целостный объект, возникающий единовременно (Росси, 2015: 30–42). А. Росси доказывал, что, поскольку город создается во времени, его архитектурная среда разворачивается последовательно, подобно рассказу (архитектуру он сравнил с лингвистикой: как текст понимается через его части, так и город открывается не одномоментно и целиком, а через факты городской среды). Таких фактов городской среды в каждом городе достаточно много, они разнообразны и соотносятся с разными историческими и смысловыми контекстами. Соотношение фактов городской среды и городских историй достаточно сложное: история, оставляет в городской среде свои следы, а факты городской среды, в свою очередь, могут становиться опорными точками проектов публичной истории. Особое значение имеет работа с фактами городской среды в непривлекательных микрорайонах, например, застроенных типовым жильем. Проекты публичной истории в таких микрорайонах могут быть направлены на создание внутреннего содержания, контрастирующего с анонимностью типовой архитектуры.
Существенное значение в воспроизводстве культурного капитала имеют культурные проекты, предполагающие интеграцию социальных связей вокруг объектов культурно-исторического наследия. Например, в некоторых городах создаются краудфандинговые платформы для сбора средств на восстановление таких объектов. Очевидно, что эффект подобных проектов состоит не только в сборе средств, а, прежде всего, в создании символического ресурса и развитии коммуникаций вокруг исторических микронарративов, позволяющих интегрировать культурно-исторический объект и связанный с ним городской нарратив с микронарративами жителей города.
Один из путей решения проблемы компенсации социальной апатии, атомизации общества и низкого уровня доверия состоит в использовании современных цифровых медиатехнологий, которые создают новые возможности для социальной вовлеченности и воспроизводства городских сообществ (Бабинцев и др., 2023). Цифровые медиа позволяют структурировать сетевые отношения вокруг исторических нарративов и поддерживать чувство причастности на основании использования интерактивных технологий. Реализации партисипаторных проектов публичной истории, основанных на соучастии, способствует стремительно развивающаяся цифровизация социальных взаимодействий и возникновение цифровой медиасреды как пространства социальной активности личности. Цифровая среда создается вероятностными потоками коммуникаций, поэтому цифровые проекты основываются на интеграции элементов и связей, получаемых из множественных и децентрализованных потоков информации.
В городских проектах публичной истории существенную роль играет проектирование взаимодействия онлайн-коммуникаций с фактами городской среды и городским пространством, что позволяет создавать вокруг культурных запасов потоки коммуникаций, основанных на агрегировании связей, создающихся общественным участием. Основной задачей такого партисипатор-ного проектирования является удержание этих связей. Успешность реализации партисипаторных проектов публичной истории предопределяется новыми проявлениями идентичности современного человека, характерное желание которого рассказать о себе в социальных сетях свидетельствует о стремлении интегрироваться с другими – не обязательно ближними, но и дальними. Отсюда и новый запрос на солидарность, которая вырастает из горизонтальных коммуникаций.
Интерактивные сетевые сообщества интегрируются вокруг общих интересов и ценностей, которые проявляют эффективность в реализации локальных проектов и решении «нишевых» проблем. В качестве примеров проектов публичной истории, основанных на общественном участии, можно привести онлайн-проекты, направленные на сбор и агрегирование личных воспоминаний об известных исторических событиях, историй семьи или поколений, историй домов, улиц, городов. Общественное участие может включать создание контента, его распространение, критику, потребление. В формате соучастия создаются разнонаправленные потоки исторических фактов и их интерпретаций. Сам проект превращается в платформу, объединяющую разных участников, которые выступают в качестве создателей, распространителей и критиков контента. Разумеется, инициаторы подобных проектов ориентируются не на предвидение ожидаемого, а на ожидание непредвиденного. Проект может разрастись и выйти за рамки изначального замысла. Поэтому главная функция инициаторов состоит в том, чтобы структурировать хаотичные потоки, ввести их в конструктивное и захватывающее русло. Одним из наиболее значимых результатов проектов партисипаторной истории является создание наполненных социальными связями публичных пространств – не только медиапространств, но и пространств, организованных вокруг объектов исторического наследия, музеев, библиотек, университетов (Саймон, 2017).
Привлекательность участия в такого рода проектах обеспечивается тем, что оно дает участникам возможность самореализации. Их вовлечение происходит, как правило, поэтапно: от индивидуального потребления контента, к взаимодействию с ним – на первых этапах, до объединения таких взаимодействий с контентом в сеть и поддержание идентичности сообщества – на завершающих этапах проекта. Разумеется, в российских условиях общественное участие в подобных проектах часто носит фрагментарный и неустойчивый характер. Но перспективы развития общественного участия во многом связаны с двумя взаимодополняющими факторами: во-первых, с развитием институциональной среды, способствующей расширению радиуса доверия и стабилизации правил игры, во-вторых, с созданием организационных предпосылок для взаимодействия граждан друг с другом и с институциями, занимающимися публичной историей. Такие организационные предпосылки генерируются в интерактивном пространстве на основании интеграции разнородного и децентрализованного знания пользователей.
Развитие публичной истории может иметь и прямую потребительскую ценность для города, например, создаваемую выгодами от потока туристов. Но не следует недооценивать непотребительские ценности обращения к публичной истории, которые могут быть связаны с убежденностью жителей города в ценности локальной истории и своей вовлеченности в нее. Участие граждан в подобных проектах мотивируется, прежде всего, теми экстерналиями, которые связаны с реализацией проекта.
Роль проектов публичной истории в развитии культурного капитала современных городов состоит, таким образом, в обращении к «спящим» символическим ресурсам прошлого, которые могут стать фактами городской среды или превратиться в виртуальный объект (например, интерактивную карту или социальную сеть), которые будут способствовать развитию потоков коммуникаций, формируя доверие, нормы взаимности и идентичность сообществ.
Список литературы Публичная история в городском пространстве: символический ресурс прошлого и культурный капитал
- Воспроизводство городского сообщества в условиях цифровой трансформации урбанизированной среды / В.П. Бабинцев [и др.] // Теория и практика общественного развития. 2023. № 10. С. 27-36. DOI: 10.24158/tipor.2023.10.2 EDN: CSTXHJ
- Всё в прошлом. Теория и практика публичной истории / под ред. А.И. Завадского, В.С. Дубиной. М., 2021. 700 с.
- Росси А. Архитектура города / пер. с ит. А. Голубцовой. М., 2015. 264 с.
- Саймон Н. Партиципаторный музей / пер. А. Глебовской. М., 2017. 368 с.
- Тросби Д. Экономика и культура / пер. с англ. И. Кушнаревой. М., 2013. 256 c.
- Франция-память / П. Нора, М. Озуф, Ж. де Пюимеж, М. Винок; пер. с фр. Д. Хапаевой. СПб., 1999. 328 c.
- Lefebvre H. The Production of Space. Oxford; Cambridge, 1991. 464 p.
- Levi G. On Microhistory // New Perspectives on Historical Writing / ed. by P. Burke. Pennsylvania, 1992. Pp. 93-111.