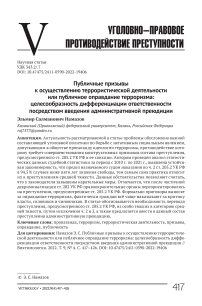Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма: целесообразность дифференциации ответственности посредством введения административной преюдиции
Автор: Намазов Э.С.
Журнал: Виктимология @victimologiy
Рубрика: Уголовно-правовое противодействие преступности
Статья в выпуске: 4 т.9, 2022 года.
Бесплатный доступ
Актуальность рассматриваемой в статье проблемы обусловлена важной составляющей уголовной политики по борьбе с негативным социальным явлением, допускающим в обществе пропаганду идеологии терроризма, противодействие которому требует совершенствования конструктивных признаков состава преступления, предусмотренного ст. 205.2 УК РФ и ее санкции. Автором проведен анализ статистических данных судебной статистики за период с 2010 г. по 2021 г., выявлена устойчивая закономерность, что предел назначаемого судом наказания по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ в 94,5 % случаев ниже пяти лет лишения свободы, тем самым сама практика относит их к преступлениям средней тяжести. Данные обстоятельства позволяют считать, что у законодателя завышены карательные меры. Отмечается, что после частичной декриминализации ст. 282 УК РФ правоохранительные органы переориентировались на преступления, предусмотренные ст. 205.2 УК РФ. Формально приговоры выносят за оправдание терроризма, фактически граждан всё чаще наказывают за критику власти, силовиков и чиновников. В статье обосновывается необходимость перевода преступления, предусмотренного ст. 205.2 УК РФ, из особо тяжких в категорию средней тяжести, путем исключения ч. 2 и 3, а также предлагается ввести в данный состав преступления административную преюдицию.
Пропаганда, терроризм, террористическая деятельность, призывы, оправдание, публичность
Короткий адрес: https://sciup.org/14126253
IDR: 14126253 | УДК: 343.2/.7 | DOI: 10.47475/2411-0590-2022-19406
Текст научной статьи Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма: целесообразность дифференциации ответственности посредством введения административной преюдиции
Существенные противоречия в массиве разнонаправленных экономических интересов субъектов международного права при отсутствии должного контроля за деятельностью по их реализации и недостаточной эффективности юридических институтов, а также наблюдаемой последние тридцать или сорок лет политике двойных стандартов западных так называемых «демократических» государств, постоянном совершенствовании инструментов влияния заинтересованных сил на процессы разрешения конфликтов, и кроме прочего в связи с особенностями географического расположения и по ряду иных причин геополитического характера актуальная для современного мира проблема угрозы безопасности граждан, различных публичных институтов, всему обществу и в целом мировому порядку оказалась важной и для России; она выражена в проявлениях экстремизма — террористических актов и сопутствующих им деяний. В результате и Россия оказывается ареной деятельности деструктивных элементов: в памяти навсегда остались чудовищные трагические события — взрывы в метрополитене Москвы 1996, 2000, 2004, 2010 гг., теракты на Дубровке 2002 г., в аэропорту Домодедово 2011 г. и множество других.
Вызовы подобного рода активизировали соответствующие исследования, социологические и правовые инструменты противодействия указанным девиациям становятся совершеннее, доктрина предлагает все новые и новые методы борьбы с ними. Многолетний мировой опыт позволяет утверждать, что наиболее эффективной оказывается деятельность по предупреждению и пресечению преступ лений террористической направленности, совместные усилия государства и общества по выявлению всего разнообразия факторов, создающих условия для их совершения; к их числу можно отнести пропаганду и подстрекательство к подобной деятельности, позволяющие вербовать новых членов террористических групп, собирать необходимые финансовые средства, находить сочувствие и поддержку среди деструктивно ориентированной части граждан. На этих обстоятельствах акцентируется внимание и в ряде международных правовых актов.
Материалы и методы
В качестве научного материала были использованы публикации отечественных ученных по рассматриваемой проблеме. Эмпирический материал представлен материалами судебной практики и статистики о количестве осужденных по ст. 205.2УК РФ за период с 2010 по 2021 г.
Объектом проведенного исследования следует считать комплекс общественных отношений, продуцированных конструированием уголовно-правовой нормы, предусмотренной ст. 205.2УК РФ, регламентирующий публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма. Таким образом, предметом исследования является указанная уголовно-правовая норма. Проведенное исследование базируется на актуальной редакции уголовного законодательства и использует сравнительноправовой и формально-логические методы.
Результаты исследования
На протяжении длительного времени международное сообщество активно проводит политику борьбы с терроризмом — одним из главных угроз современности [1, с. 351]. Конвенция Совета Европы о предупреждении терроризма от 16.05.2005 обязала участвующие в ней государства, в том числе Российскую Федерацию, включить в национальное уголовное законодательство положения, предусматривающие ответственность за публичное подстрекатель-1
ство к совершению терроризма ; последнее со стороны отечественного высшего органа власти достаточно быстро получило свою реализацию — Уголовный кодекс РФ (далее — УК РФ) Федеральном законом № 153-ФЗ от 27.07.2006 2 был дополнен статьей 205.2.
Публичное подстрекательство к совершению терроризма обладает высокой общественной опасностью, оно способствует деятельности, влекущей дестабилизацию общественного спокойствия и нарушение порядка, вместе с тем способно провоцировать морально неустойчивых, обладающих низким уровнем правосознания и социальной ответственности граждан к совершению преступлений террористической направленности.
Страдают от деяний такого рода все без исключения, в уголовно-правовой литературе подчеркивается, что непосредственным объектом их посягательства выступают одновременно состояние защищенности и личности, и общества, и государства, подвергающихся угрозам общеопасного характера [2, с. 464]; одновременно они причиняют вред и иным обладающим значимостью общественным отношениям. В этой связи, отмечает З. А. Шибзухов, «рассматриваемая в рамках настоящего
Таблица 1 —Анализ судебной статистики по преступлениям, предусмотренным чч. 1 и 2 ст. 205.2 УК РФ
|
№ п/п |
Год |
Статья УК РФ |
о CD g о о CD СО |
й ю m о и и ^ CD S ^ U |
Виды основного наказания |
||||
|
Срок лишения свободы |
|||||||||
|
с; cd 05 О О |
ст о ^ CD 7-1 CD CD с; 3rN £ о |
5 § |
CD 5 М~> CD " <5 § |
CD 5 CD Ь 5 S |
|||||
С учетом специфики уголовно-правовых исследований, заключающейся в том, что реальную картину по той или иной конкретной социальной девиации можно получить лишь посредством анализа актуальной практики, в процессе подготовки настоящей работы были изучены статистические данные за период с 2010 по 2021 г. по преступлениям, предусмотренным чч. 1 и 2 ст. 205.2 УК РФ1 (таблица 1).
Материалы изученной практики позволяют выделить два существенно отличающихся этапа в развитии как самого явления, так и изменений законодательства и соответствующей практики привлечения виновных к ответственности: первый — относительной стабильности и второй — последующей динамики в статистике рассматриваемых преступлений. По сведениям, представленным на сайте Судебного департамента при Верховном Суде РФ, период с 2010 по 2015 г. характеризуется тем, что по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ не было ни одного осужденного, потенциал статьи, в том числе превентивный, фактически не был реализован, что связано с недостаточной ее законодательной проработанностью. Значительный скачок показателей происходит с 2016 г., когда по ч. 1 осужденных к лишению свободы 28 лиц, а по ч. 2 — 3. Далее уже с 2018 г. наблюдается рост числа осужденных к лишению свободы лиц по ч. 1 — 41, а по ч. 2 — 35; в 2019 г. по ч. 1 — 41, а по ч. 2 — 45; в 2020 г. по ч. 1 — 25, а по ч. 2 — 65; в 2021 г. по ч. 1 — 21, по ч. 2 — 55.
В 2017 г. была расширена диспозиция данной статьи (в части пропаганды), что, разумеется, отразилось на показателях, поскольку привело к росту числа зарегистрированных преступлений, ответственность за которые установлена данной нормой: количество уголовных дел увеличилось более чем в 20 раз. Нет предпосылок полагать, что фактическая ситуация улучшилась — и очевидно, что такие перепады не свидетельствуют об оптимальном содержании нормы и в новой ее редакции.
Заслуживает внимания и тот факт, что в 2018 г. по части 2 ст. 205.2 УК РФ впервые за последние 8 лет двое были осуждены к лишению свободы на срок, превышающий 5 лет; динамика последующих лет обнаруживает стабильный рост числа лиц, осужденных за данное преступление: в 2019 г. — 5, в 2020 г. — 6, в 2021 г. — 9. Анализ позволяет усмотреть закономерность в том, что подавляющая масса приговоров на протяжении 11 лет судами вынесена с назначением наказания в виде лишения свободы — в основном по части первой ст. 205.2 УК РФ, в меньшей — по части второй.
При наличии санкции в ст. 205.2 УК РФ, предусматривающей сроки по ч. 1 до пяти, а по части 2 от двух до семи лет лишения свободы, фактически последнее назначается по части статьи, предусматривающей более тяжкое преступление — ч. 2 ст. 205.2 УК РФ — в абсолютном большинстве случаев менее 5 лет — т. е. в пределах, относящихся к категории преступлений средней тяжести; что, в свою очередь, позволяет считать актуальным вопрос о необоснованно завышенных карательных притязаниях законодателя.
Учитывая социологическую основу предписаний закона, обусловленную тем, что суды и судьи, выступающие институтами государства, одновременно являются частью общества — при вынесении приговоров объективно и субъективно выражают отношение населения к той или иной разновидности преступного поведения — наблюдаемая тенденция позволяет прийти к выводу о том, что отступая от объективных характеристик, законодатель ориентирован весьма суровыми санкциями преодолеть те социально-правовые девиации, ответственность за которые предусмотрена этой нормой; в то же время фактически эти деяния менее общественно опасны, чем это представлено в действующем законодательстве и усматривается из соответствующих санкций. В этой связи целесообразно предложить отнести их к категории преступлений средней тяжести.
Наиболее высокий удельный вес до 2018 г. отмечается по преступлениям, предусмотренным ст. 282 УК РФ; но после ее частичной декриминализации силовой блок (ФСБ, ЦПЭ МВД) был ориентирован на деяния, предусмотренные ст. 205.2 УК РФ — к этому времени сформировались методика выявления и практика доказывания данных преступлений. Ни первый подход, ни второй не исключили указанного выше несоответствия, которое находит свое негативное социальное выражение; а применение рассматриваемой нормы закона не дает должного эффекта — зачастую квалификация правоохранительными органами того или иного деяния по ст. 205.2 УК РФ вызывает раздражение значительной части населения. Это положение имеет определенные объективные предпосылки: во-первых, данная норма применяется нередко к особым субъектам: правозащитникам и журналистам, критикующим власть и государство; во-вторых, сотрудники правоохранительных структур превращаются в «виртуальных полицейских», основная деятельность которых сводится к мониторингу интернета в поисках лиц, выразивших на интернет-сайтах, социальных сетях одобрение или восхваление терроризма.
Предметом широкого общественного обсуждения со стороны журналистов и международных правозащитных организаций стало возбуждённое 05.02.2019 Следственным комитетом России по Псковской области уголовного дела по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ на журналистку П. по материалам радиопередачи, посвященный взрыву в здании УФСБ в г. Архангельске 1 .
По версии обвинения, П. допустила такие утверждения в публичной сфере, будто репрессивная деятельность государства ведет к последовательной радикализации всей политики, а действия подростка Ж. сравнила с террористическими акциями народовольцев, боровшихся с царизмом. Она выражала сочувствие «архангельскому бомбардировщику», описала его как борца с репрессивным государством и жертвой власти, имевшего «высокие» цели. Нейтральное отношение к данному теракту и отсутствие осуждения объяснялись как политическая безальтернативность, невозможность выразить протест иначе, кроме как самоподрывом.
Прокуратура потребовала для обвиняемой наказание в виде шести лет лишения свободы в колонии строгого режима и запрета на работу в журналистской сфере сроком на четыре года. 06.07.2020 2-й Западный окружной военный суд (г. Москва) признал П. виновной по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ, назначил наказание в виде штрафа в сумме 500 тыс. рублей.
05.03.2019 2-й Западный окружной военный суд признал жителя Калуги Л. виновным по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ и приговорил к 5 годам 2 месяцам колонии общего режима с запретом администрирования сайтов в интернете на 2 года, за одобрительный комментарии поступка Ж., в «ВКонтакте» 2 .
26.07.2019 Самарский гарнизонный суд приговорил по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ жителя Тольятти Д. к 1 году колонии общего режима за размещение 31.10.2018 в сети «Twitter» (запрещен в России) фотографий, на которых были запечатлены последствия взрыва и хвалебный текст в отношении действий Ж 3 .
Статья 205.2 УК РФ сопровождается более строгими социальными и юридическими мерами профилактики (также и соответствующими последствиями), чем это имеет место в отношении лица, совершившего самое тяжкое «классическое» преступление — убийство (ч. 1 ст. 105 УК РФ): блокировкой банковских счетов лица, осужденного за данное и смежные преступления, внесением его данных в публичный реестр Росфинмониторинга4; правоогра-ничениями при осуждении (условно-досрочное освобождение к осужденному лицу может быть применено при отбытии не менее % срока наказания (п. «г» ч. 3 ст. 79 УК РФ); на этих лиц не распространяются общие правила отбытия наказания в пределах территории субъекта, в котором проживал или осужден (ч. 4 ст. 73 УИКРФ). После освобождения из мест лишения свободы в обязательном порядке устанавливается административный надзор до окончания срока судимости , за нарушение которого следуют административная (ст. 19.24 КоАП РФ) или уголовная (ст. 314.1) ответственность и пр.
Вышеуказанная объективная степень общественной опасности находит свое отражение в правосознании населения, отношение которого к данным действиям мягче того, что демонстрирует своими карательными притязаниями законодатель; непоследовательность проявлена не только при формировании санкции, но и конструировании состава преступления. Собственно говоря, это ранее уже было озву чено некоторыми учеными, к примеру, Н. Ф. Кузнецова писала про юридическую некорректность и оценочный характер термина «оправдание», что порождает возможность применения избыточных карательных средств. «Если вдова террориста публично критикует действующую власть за убийство ее мужа — следует ли считать это оправданием терроризма? Пожать руку террористу — это оправдание терроризма? Административной ответственности за данные деяния было бы достаточно» — писала автор [4, с. 312–313]. Мы же полагаем, что необходимо дифференцировать ответственность с установлением точного соответствия их общественной вредности/опасности предусмотренным в законе мерам государственного воздействия, для чего целесообразно, устанавливая межотраслевые связи и оптимальную, в должной мере гибкую систему законодательного регулирования, закрепить нормы с административной преюдицией.
С приведенной позицией следует согласиться хотя бы потому, что данные статистики и анализ вынесенных приговоров по ст. 205.2УК РФ это объективно подтверждают: наблюдается устойчивая следующая закономерность — предел назначаемого наказания в виде лишения свободы в 94,5 % случаев ниже пяти лет лишения свободы; т. е. практика сама этими приговорами
1 Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы : Федеральный закон от 06.04.2011 № 64-ФЗ [п. 3 ч. 2 ст. 3] // СПС «Консультант Плюс». URL: https://www.consultant. ru/document/cons_doc_LAW_112702/ (дата обращения: 25.10.2022).
относит их к преступлениям средней тяжести, а отдельные ситуации демонстрируют, что уголовная ответственность выступает излишней репрессией (приведенные в работе Н. Ф. Кузнецовой в качестве примера случаи нередки и весьма разнообразны).
Терроризм как социальное явление выступает крайним проявлением экстремизма. Но при этом КоАП РФ не содержит нормы, предусматривающей ответственность за оправдание терроризма и других подобных деструктивных антиобщественных проявлений; таковая установлена за пропаганду либо публичное демонстрацию нацистской атрибутики или символики (ст. 20.3 КоАП РФ), возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства (ст. 20.3.1 КоАП РФ). В этой связи логично встает вопрос о целесообразности дополнения ст. 205.2 УК РФ условием/признаком, предусматривающим административную преюдицию в качестве средства дифференциации ответственности, обеспечения межотраслевых связей в юридических конструкциях и их единой систематизации и в то же время гуманизации уголовно-правовых институтов, как это уже сделано в целом ряде статей УК РФ; и одновременно соответствующего дополнения КоАП РФ.
Несмотря на то, что в научной литературе проблема применения административной преюдиции остается дискуссионной, все больше авторов склоняются к признанию ее позитивным правовым инструментом. Уместно привести слова З. Э. Эргашевой, которая пишет, что «административная преюдиция отвечает потребностям времени и является весьма востребованным институтом и действенным юридическим средством» [5, с. 43].
Суть административной преюдиции заключается в установлении уголовной ответственности лица при условии, если виновный в течение определенного законом времени совершит одно или несколько тождественных административных правонарушений.
Некоторые авторы считают правильным дополнение положением об административной преюдиции квалифицированных составов преступлений небольшой и средней тяжести [6, с. 280]. Другие же аргументируют необходимость применения административной преюдиции во всех случаях, когда за преступление предусмотрено наказание до трех лет лишения свободы [7, с. 1141]. Мы же, исходя из чч. 2 и 3 ст. 15 УК РФ, более уместным считаем введение административной преюдиции в нормы об ответственности за преступления, караемые до пяти лет лишения свободы — так, как в настоящее время уже предусмотрено в ст. 212.1, 215.4, 280.3, 282, 284.1, 284.2 УК РФ; это обеспечивает одновременно и единство подходов.
Посредством административной преюдиции законодатель сглаживает пограничные моменты, устанавливает надлежащую, должным образом дифференцированную ступенчатость перехода с административной на уголовную ответственность и, кроме того, формирует унифицирующие и разграничивающие смежные составы преступлений юридические факторы (формальные признаки). Между административной ответственностью и уголовной границы характеризуются достаточно резким переходным моментом, тогда как действительность предполагает их плавность, постепенность: законодатель преодолевает этот порог специальным техническим приемом, которым и выступает административная преюдиция. В ст. 205.2 УК РФ она не предусмотрена, хотя, казалось бы, было бы правильным и удачным решением именно таким образом дифференцировать ответственность — в соответствии современными трендами.
Начиная с 2009 г. законодатель последовательно вводит в УК РФ составы с административной преюдицией (с 2009 по 2011 г. УК РФ был дополнен всего двумя подобными положениями: ст. 178 и 151.1 УК РФ, а с 2014 по 2016 г. приняты дополнения еще в восемь статей: 212.1, 215.4, ч. 2 ст. 314.1, 264.1, 284.1, 116.1, 157, 158.1 УК РФ). С целью последовательной и продуманной систематизации законодательных рубрик, оптимальной регламентации, обеспечения одинакового подхода вполне уместно дополнение и ст. 205.2 УК РФ положением, предусматривающим административную преюдицию, которая в полной мере будет отвечать реалиям нашего времени.
Легализация административной преюдиции в ст. 205.2 УК РФ является действенной и необходимой мерой, которая позволит достичь целей уголовной политики в предупреждении преступлений и эффективной борьбе с преступностью в целом; она способствует снижению рецидивной преступности, а механизм реагирования на административные правонарушения гораздо оперативнее и значительно менее затратный, чем уголовное преследование.
Проведенный выше статистический анализ применения ст. 205.2 УК РФ подтвердил возможность и частичной декриминализации данного преступления, и перевода в категорию средней тяжести другой ее части.
Отметим также то, что в диспозиции ст. 205.2 УК РФ законодатель использует два неравнозначных по содержанию термина: «террористическая деятельность» и «терроризм». Понятие «террористическая деятельность» содержится и раскрывается в УК РФ [8, с. 245]. Полагаем, что криминализация термина «терроризм» в ст. 205.2 УК РФ не совсем оправдана, поскольку в доктрине дефиниция «терроризм» выступает в большей мере как социально-политическая и криминологическая категория, а не уголовно-правовая (тем более некорректно ее использование в качестве признака при описании объективной стороны конкретного преступления).
Заключение
Подводя итоги, полагаем необходимым изложить основные выводы:
-
1. Представляется социально и юридически обоснованным изложение ст. 205.2 УК РФ «Публичные призывы, оправдание или пропаганда к осуществлению террористической деятельности» в следующей редакции, предусматривающей административную преюдицию:
-
2. При этом необходимо дополнить аналогичной статьей КоАП РФ. Предпосылкой уголовной ответственности может быть совершение однократного административного нарушения в течение одного года — при обязательном уведомлении виновного о том, что при повторном правонарушении, оно будет привлечено к уголовной ответственности.
-
3. Социально и юридически обосновывается предложение об исключении части второй из ст. 205.2 УК РФ.
-
4. Представляется, что современные тренды предполагают постепенное расширение перечня статей с административной преюдицией; в этой связи полагаем, что целесообразно дополнение подобными положениями всех составов Особенной части УК РФ, предусматривающих ответственность за преступления небольшой и средней тяжести.
«Публичные призывы, оправдание или пропаганда к осуществлению террористической деятельности, совершенные, в том числе с использованием средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть «Интернет», лицом после его привлечения к административной ответственности за аналогичное деяние в течение одного года», — … далее по тексту.
Список литературы Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма: целесообразность дифференциации ответственности посредством введения административной преюдиции
- Тарбагаев А. Н., Москалев Г. Л. Проблемы уголовно-правовой регламентации склонения, вербовки или иного вовлечения в осуществление террористической деятельности (часть 1 статьи 205.1 УК РФ) // Всероссийский криминологический журнал. 2017. Т. 11, № 2. С. 350-360.
- Уголовное право России. Особенная часть: учебник / под ред. Ф. Р. Сундурова, М. В. Талан, И. А. Тарханова. 2-е изд., перераб. и доп. Москва: Проспект, 2020. 992 с.
- Шибзухов З. А. Уголовная ответственность за публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.08. Москва, 2012. 181 с.
- Кузнецова Н. Ф. Проблемы квалификации преступлений: Лекции по спецкурсу "Основы квалификации преступлений" / науч. ред. и предисл. академика В. Н. Кудрявцева. Москва: Городец, 2007. 336 с.
- Эргашева З. Э. Административная преюдиция в уголовном праве: дисс… канд. юрид. наук: 12.00.08. Москва, 2018. 215 с.
- Юнусов А. А., Серкова Т. В. Административная преюдиция в российском уголовном праве // Актуальные проблемы экономики и права. 2015. № 1. С. 278-282.
- Лапина М. А. Карпухин Д. В., Трунцевский Ю. В. Административная преюдиция как способ декриминализации уголовных преступлений и разграничения уголовных преступлений и административных правонарушений в современный период // Административное и муниципальное право. 2015. № 11 (95). С. 1138-1148.
- Кочои С. М. О качестве уголовно-правового регулирования ответственности за экстремизм и идеологический экстремизм // Всероссийский криминологический журнал. 2022. Т. 16, № 2. С. 240-247.