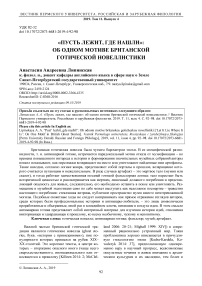"Пусть лежит, где нашли": об одном мотиве британской готической новеллистики
Автор: Липинская Анастасия Андреевна
Журнал: Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология @vestnik-psu-philology
Рубрика: Литература в контексте культуры
Статья в выпуске: 4 т.11, 2019 года.
Бесплатный доступ
Британская готическая новелла была чутким барометром эпохи. В ее специфической разновидности, т. н. антикварной готике, встречается парадоксальный мотив отказа от музеефикации - во времена повышенного интереса к истории и формирования значительных музейных собраний авторы новелл показывают, как персонажи возвращают на место или уничтожают найденные ими артефакты. Такие находки, согласно логике жанра, представляют собой порталы в прошлое, возвращение которого считается пугающим и нежелательным. В ряде случаев артефакт - это мертвое тело (мумия или скелет), и тогда работает заимствованная поздней готикой фольклорная логика: тело перестает быть исторической ценностью и рассматривается как мертвец, лишенный должного погребения и представляющий опасность для живых, следовательно, его необходимо оставить в покое или уничтожить. Размещение в музейной экспозиции само по себе может выступать как недолжное посмертие - травестия настоящего погребения: стеклянная витрина, публичное пространство музея вместо непотревоженной могилы. Подобные сюжетные ходы не следует воспринимать как прямое отражение взглядов авторов, среди которых были профессиональные историки и антиквары-любители, - это лишь символически проработанные и обыгранные, иной раз в комедийном ключе, витавшие в воздухе идеи. В этом смысле антикварная готика представляет собой интересный материал для изучения истории идей, отношения викторианцев и эдвардианцев к прошлому, ко всему необычному, чужому и непонятному.
Готическая новелла, антикварная готика, фольклор, музей, артефакт
Короткий адрес: https://sciup.org/147226993
IDR: 147226993 | УДК: 82-32 | DOI: 10.17072/2073-6681-2019-4-92-98
Текст научной статьи "Пусть лежит, где нашли": об одном мотиве британской готической новеллистики
Британской империи, еще обширной, но уже испытывающей серьезные проблемы – научный интерес и обывательское любопытство соседствовали со страхом перед потенциально опасным архаическим иным, особенно на фоне дарвиновских учений, которые все еще активно обсуждались. Прошлое воспринималось двойственно: и как наследие, которым можно интересоваться и гордиться, и как нечто проблематичное, тревожащее – например, примитивные культуры и первобытная древность, когда сама грань между человеком и животным была пугающе зыбкой (более того, водораздел между архаикой и современностью не представлялся абсолютным).
На этом фоне появилась разновидность готических новелл, или историй с привидениями, которые теперь иногда обозначают как «антикварная готика» [Brewster 2012: 41]. Авторы, многие из которых профессионально или на любительском уровне занимались историческими исследованиями и собиранием всевозможных артефактов и просто интересных сведений (медиевист М. Р. Джеймс, историк-краевед А. Грей, антиквар С. Бэринг-Гулд и др.), охотно использовали материалы из сферы своих профессиональных интересов в художественных текстах. И здесь обращает на себя внимание один довольно часто встречающийся мотив – отказ от музеефикации, т. е. ситуация, в которой некий старинный предмет решают не отправлять в музей, а оставить (как правило, закопать) там, где его нашли, или вовсе уничтожить. Подобное нарушение научного протокола [Senf 2000: 218] парадоксально, особенно если учесть, что в то время формировались многие крупные музейные собрания (к примеру, в Лондоне в 1852 г. был основан Музей Виктории и Альберта, в 1857 г. – Музей науки, в 1881 г. открыт для посетителей Музей естественной истории). Цель данной статьи – установить логику, стоящую за этим мотивом.
Важно учитывать, что в «антикварной готике» артефакт служит своего рода порталом, сквозь который потенциально опасные силы проникают в современную реальность. Движущей силой сюжета служит зачастую любопытство; один из рассказов М. Р. Джеймса так и называется – «Предостережение любопытным» ( A Warning to the Curious , 1925) [James 1994: 314–327]. Интересно, что оно не окрашено этически, но является воплощением заимствованной из фольклора логики: запрет непременно будет нарушен, в противном случае истории попросту не было бы – достаточно вспомнить запретную комнату в замке Синей Бороды. Но последствия прикосновения к прошлому опасны, иногда фатальны: самое малое, что может ждать героя, – сильный испуг, а возможна и гибель.
Один из самых известных текстов по теме – «Альбом Каноника Альберика» М. Р. Джеймса ( Canon Alberic’s Scrap-book , 1893) [ibid.: 11–20]; здесь присутствует весь комплекс классических мотивов: историк покупает древнюю рукопись, читает ее без необходимых предосторожностей и выпускает на волю чудовище. Рукопись сжигают во избежание повторного инцидента, но предварительно фотографируют, поскольку она все-таки представляла собой интересный исторический документ. Здесь хорошо видны два способа отношения к этому документу. Он одновременно опасен как ключ к чужому, страшному миру архаики, населенному неизвестно кем, и интересен – опять-таки, своей необычностью, уникальностью, долгой историей (это подшивка, в которой собраны подробно перечисленные автором памятники, способные заинтересовать любого коллекционера – разумеется, вымышленные). Одно без другого, по логике сюжета, невозможно – любопытство открывает дорогу страху. В то же время герои рассказа поступают с рукописью сразу двумя способами. Они сжигают ее – как могли бы в древности сжечь ведуна или служащий колдовским целям предмет, и архаичность расправы (пусть и мотивированная утилитарно) сама по себе характерна. Информация же, нейтральная, переработанная в духе современной технократической цивилизации, хранится на фотоснимке.
В новелле Джона Бакана «Ветер в портике» (The Wind in the Portico, 1928) [Buchan 1928: 113– 148] не слишком просвещенный, однако преисполненный энтузиазма любитель древностей приносит к себе в поместье алтарь римско-британского божества и, вероятно, использует его по назначению, потом спохватывается и проводит церемонию перепосвящения, но сгорает вместе с этим алтарем. В духе присущего жанру двойного объяснения это можно трактовать либо как гнев божества, либо как последствия пожара в котельной. В результате остается довольно много древних скульптур, сильно обугленных, которые не хотят брать в музей. Очевидно, что дело не только в плохом состоянии вещей – в мире новеллы они слишком явно связаны с темными древними силами, и нести в музей полноценный портал в языческое прошлое, конечно, никому не хочется. Но Бакан, человек широко образованный, пропитал всю новеллу реальными историко-археологическими подробностями, отсылками к научным трудам и описаниями памятников. К примеру, в тексте детально описана некая бородатая Горгона [ibid.: 142] – достаточно зловещая и двусмысленная, чтобы попасть в готический текст: это не зверь и не человек, не мужчина и не женщина в полной мере. Это не выдумка писателя: соответствующая скульптура имеется в Британском Музее, а видел ее автор если не в собственно коллекции, то на фронтисписе научного труда [Haverfield 1979], упомянутого в рассказе [Buchan 1928: 131]. То есть что бы ни сообщал нам рассказчик, артефакты из дома с портиком попали в музей – хотя бы некоторым читателям, активно интересующимся историей, эта идея могла, а возможно, и должна была прийти в голову. Так фиктивная реальность парадоксально открывается в реальность читателя, причем весьма зловеще. Интересно, что и у М. Р. Джеймса звучал этот мотив: о поимке или уничтожении нарисованного на миниатюре и затем ожившего чудовища нет ни слова, о нем как будто забыли, значит, можно заключить, что оно все еще находится в «нашем» мире – весьма эффективный прием создания атмосферы страха и тревоги.
Следующий пример напоминает, что в роли артефакта может служить и мертвое тело (мумия или скелет), соответственно, его размещение в музейной экспозиции представляет собой недолжное погребение. Часто встречающиеся в фольклорных рассказах ходячие мертвецы бродят зачастую именно потому, что они по той или иной причине не были преданы земле согласно обычаю [Bennett: 41]. Так фольклорная логика обретает в готических новеллах вторую жизнь.
Новелла С. Бэринг-Гулда называется «H. P.» (1904, название расшифровывается как homo prehistoricus, т. е. доисторический человек) [Baring-Gould 1904: 143–159]. Автора, вероятно, вдохновляли и дарвиновские идеи, активизировавшие интерес к доисторическим предкам человека, и крупные археологические находки – не только останков, но и, например, росписей в пещерах как раз в интересующую нас эпоху. Бэринг-Гулд пишет комический текст про археолога, что само по себе симптоматично: значит, можно было рассчитывать, что шутку поймут многие, соответствующие темы были на слуху, и читатели этого периода отличались подготовленностью [Соловьева 1988: 86].
Протагонист на протяжении нескольких страниц рассказывает, как он работал в пещере Фон-де-Гом (открытой в 1901 г. – совсем свежая находка на момент написания новеллы), так что поначалу новеллу легко принять за подлинные воспоминания или очерк в духе тех, что составляют книгу Бэринг-Гулда «Странные пережитки» [Baring-Gould 1892]; строго говоря, документальное начало характерно и для собственно готических новелл [Hughes 2013: 70; Водолажчен-ко 2014: 61]. Рассказчик находит скелет древнего человека, предмет чрезвычайно ценный и редкий, но тут появляется призрак покойного – и скелет из сферы антропологии и археологии перемещается в сферу «опасной» архаики. Это потревоженный мертвец, и он вступает в диалог с героем, к счастью, без фатальных последствий – все же рассказ представляет собой юмореску. Диалог археолога и «находки» выглядит как совершенно гротескный смотр сравнительных достоинств неолитической и современной цивилизации (тема не новая и, вероятно, восходящая к пассажу из классического труда Э. Б. Тайлора [Tylor 1891: 7]) – оказывается, в то время как скелет мирно лежит в пещере, призрак бродит среди живых. Прошлое совершенно буквально вторгается в настоящее. Едва ли возможно понять, над кем и над чем в большей степени смеется автор – над незадачливым археологом или над тем, как призрак выкрикивает революционные лозунги по-французски и радуется, что в его мире можно бить жен дубинкой по голове. В любом случае очевидно, что серьезный исторический анализ не предполагается, тем более что встреча двух цивилизаций прерывается обмороком протагониста, и вполне можно предположить, что он просто переутомился, уснул и увидел бредовый сон, состоящий из обрывков профессиональных познаний и житейских наблюдений.
Значительно больший интерес представляет следующая сцена, где рабочие находят лежащего без чувств исследователя. Едва придя в себя, он кричит: “ Fill in the hole ! Fill it all up. Let H. P. lie where he is. He shall not go to the British Museum. I have had enough of prehistoric antiquities. Adieu, pour toujours la Vezere” [Baring-Gould 1904: 159] («Закопайте провал! До краев закопайте! Пусть H. P. лежит, где нашли. Он не отправится в Британский музей. Хватит с меня доисторических древностей. Везер, прощай навсегда»).
Это в высшей степени показательная реакция: страх и категорический отказ не только везти как ценный экспонат в Британский Музей, но и впредь иметь дело с древностями. Реплика звучит почти истерически, и за ней опять-таки стоит древнейшая матрица встречи с неупокоенным мертвецом. А сам мертвец заявляет, что в музей он не хочет – и так над головой вечно бродят археологи, жуют бутерброды и обсуждают всякие древности, и потом, он не может далеко отойти от места, где лежит скелет, и в музее ему просто будет скучно – кругом стеклянные ящики и опять эти зануды ученые [ibid.: 153]. Пусть в комедийной форме, но возникает противопоставление двух посмертий – в пещере, где героя все устраивает, даже прогулки его духа среди живых, и в музейной витрине, где он будет изъят из привычного окружения и выставлен напоказ, сам станет одним из перечисленных им предметов (фибулы, скарабеи и т. д.). Стеклянная витрина в музее – это своеобразная травестия гроба, могилы. И из нее наш герой будет выходить, потому что это тоже недолжное захоронение (в пещере он, видимо, не был погребен согласно обычаю – скорее всего, просто убит, судя по обилию упоминаемых им кровавых драк, да так и остался лежать на месте преступления). Конечно, фольклорно-мифологическая схема здесь работает не вполне каноническим образом – отчасти потому, что текст юмористический. Однако в отдельных деталях проскальзывают очень симптоматичные для той эпохи моменты: к примеру, рассказчик сравнивает своего собеседника с обезьяной, т. е. помещает на границе человеческого в духе не только присущего готике понимания страшного как гибридного [Hurley 1996: 14], но и типичного для рубежа веков страха перед вырождением, пробуждением в человеке животного начала [Youngs 2013: 1].
Одна из «серьезных» историй про тело, которому не место в музее, создана Артуром Конан Дойлом: рассказ «Номер 249» ( Lot №249 , 1892) [Conan Doyle 1925: 179–224]. Трое молодых людей учатся в Оксфорде, один из них, по фамилии Беллингем, странный, нелюдимый, не нравится девушкам, т. е. полностью противоположен идеалу здоровой британской мужественности и потому подозрителен. Кабинет его напоминает музей – на стенах звероподобные египетские божества, посередине ящик с мумией. Такие зловещие «коллекции», созданные в сомнительных, возможно, колдовских целях (и тем отличные от собственно музейных собраний), придуманы не автором новеллы – в «Логове белого червя» Брэма Стокера имеется подробное описание собранных героем предметов (а сам герой отмечен «интеллектуальным упадком», т. е. опять же выбивается из представлений о норме) [Stoker 2016: 30].
Вот как Конан Дойл описывает мумию: ”…a horrid black, withered thing, like a charred head on a gnarled bush… with its clawlike hand and bony arm resting upon the table” [Conan Doyle 1925: 187] («нечто ужасное, черное, иссохшее, похожее на обугленный искривленный куст… кисть его, похожая на птичью лапу, и костлявое предплечье покоились на столе»). То есть это страшное гибридное «нечто», наделенное одновременно чертами человека, животного (когти) и предмета (куст), а потому опасное. Мумия лежит в открытом ящике, потому что владелец, Беллингем, собирается ее изучать – это нормально для музейного экспоната, но не для мертвого тела как такового в контексте готической новеллы: покой мертвеца потревожили, и следует ожидать, что теперь он будет тревожить живых. Очень интересна лексика – герой говорит, что «его упаковали сорок веков назад, и если бы он смог за- говорить…» [Conan Doyle 1925: 191], т. е. мумии символически присваивается статус живого и разумного существа, а если в истории с привидениями сказано, что нечто может случиться (например, тело может ожить), то, согласно законам жанра, это непременно произойдет.
Беллингем оживляет мумию, чтобы погубить соперника в любви. Так мертвое тело перестает быть экспонатом – собственно, и изучалось оно своим владельцем не в интересах науки. Предмет, приобретенный на аукционе (отсюда название новеллы), переходит в другую сферу: теперь он представляет собой очередного беспокойного и опасного для людей мертвеца, а значит, живым предстоит относиться к нему не как к любопытному источнику информации, а как к проблеме, которая лежит вне компетенции науки и образования. С архаическим иным можно справиться лишь архаическими же методами.
В дальнейших сценах не раз актуализируются звероподобные черты мертвеца – подобного рода гибридность в поздней готике характерна для опасных созданий, она будто напоминает героям, насколько тонкая грань отделяет человека от зверя и живое от мертвого. Разумеется, мумия принадлежала просто человеку, пусть и необычно рослому, но лексика, которую Конан Дойл использует для ее описания, служит переводу с языка науки и здравого смысла на язык готического ужаса. Владелец реликвии, Беллингем, тоже показан как гибридное создание, наделенное звероподобными чертами, уродливой внешностью и одновременно высочайшим интеллектом, что, согласно представлениям того времени и законам жанра, маркирует его как опасного человека. На поверхностном уровне читатель видит молодого ученого и его коллекцию, но по сути это некромант и служащий ему неупокоенный мертвец.
Следовательно, относиться к мумии как к экспонату уже невозможно, и наши герои приказывают Беллингему уничтожить ее – раскромсать ножом и сжечь. В этой сцене местоимение he снова меняется на it , и мумия превращается в предмет – кучу останков, потом горку пепла, из которого торчат «хрупкие палочки», т. е., конечно, обгорелые кости [ibid.: 223]. Папирус, содержащий тайные знания, тоже сжигают, не дав Беллингему скопировать текст (в отличие от ситуации в новелле М. Р. Джеймса, здесь решение более радикальное как раз потому, что в наличии злокозненный владелец папируса, а значит, нейтральной научно значимой информации как бы уже и нет, только «портал в прошлое», и на любом носителе он представляет угрозу).
Студент, уничтоживший мумию и папирус, говорит Беллингему, что теперь, когда вырвал у него зубы, может спокойно вернуться к научным занятиям. Еще одна звериная деталь в облике злодея – и еще одна ясно прочерченная линия: ученые занятия позволены правильным английским юношам, а то, чем занимается звероподобный урод, это некромантия.
Еще один текст об уничтожении ожившей мумии, «История поместья Бэлброу» ( The Story of Baelbrow , 1898; из цикла об оккультном детективе Флаксмане Лоу) [E. and H. Heron], принадлежит перу Кейт и Хескета Причардов, писавших под псевдонимом E. and H. Heron. Пожилой профессор-филолог с дочерью снимает дом в глуши. Он наслышан о местном призраке, но вместо бестелесной сущности сталкивается со вполне материальной и куда более грозной мумией из «музея» (комнаты, где отец хозяина дома хранил всевозможные редкости – очередная зловещая коллекция). Ее неосторожно распаковал нынешний владелец. Мертвое тело напиталось энергией местных духов и стало вампиром – и его ждет соответствующая участь – полное уничтожение. Вампира сначала расстреливают (как если бы казнили убийцу), потом помещают в старую лодку и сжигают – согласно распространенному в древности похоронному ритуалу, с той лишь разницей, что здесь цель – «избавить землю» [E. and H. Heron] от подобного зла. Артефакт превращается в неупокоенного, и весьма опасного, мертвеца, а потому подлежит уничтожению. Так характерным для поздней готики образом переплетаются до неразличимости научное, архаическое и криминально-юридическое.
Во всех упомянутых текстах хорошо заметна дилемма: как относиться к древним реликвиям, будь то мертвые тела или артефакты, – хранить и изучать или подвергать уничтожению, чтобы пресечь возможную опасность. Конечно, в реальной жизни никаких массовых походов на музеи с ножами и факелами не было, речь идет о символическом освоении прошлого. Страх перед вторжением архаики в современность в той или иной форме (от атавизмов до бунтов в колониях) был вполне реален, и как раз его освоение и «укрощение» мы наблюдаем в новеллах.
Любопытство, интерес к чужому, странному, необычному (как у героев, так и у читателя) – движущая сила многих сюжетов антикварной готики. Но в рамках этого жанра артефакты выводятся из сферы чистой науки и функционируют в рамках иной парадигмы: музеефикация воспринимается как символическое недолжное погребение – публичная демонстрация, открытый доступ к потаенному, а, согласно фольклорной логике, заимствованной авторами поздней готики, неправильно погребенный мертвец может восстать и причинить живым вред. Есть два воз- можных решения – снова похоронить как положено (закопать, оставить где есть, не переносить в музей) или уничтожить (примерно так же поступают герои многочисленных историй о вампирах, втыкая им в сердце кол, т. е. нарушая целостность тела).
Необходимо помнить, что это не прямое отражение взглядов авторов, а символически проработанные и обыгранные, иной раз в комедийном ключе, витавшие в воздухе идеи. В этом смысле антикварная готика представляет собой интересный материал для изучения истории идей, отношения викторианцев и эдвардианцев к прошлому, ко всему необычному, чужому и непонятному.
‘LET HIM LIE WHERE HE IS’:
ON ONE MOTIF IN BRITISH GHOST STORIES
Anastasia A. Lipinskaya
Associate Professor in the Department of English Language for Earth Sciences
Saint Petersburg State University
ResearcherID: C-8368-2016
Submitted 09.10.2019
Список литературы "Пусть лежит, где нашли": об одном мотиве британской готической новеллистики
- Водолажченко Н. В. Становление и развитие английской готической новеллы в XIX веке // Вестник Новгородского государственного университета. 2014. № 83, ч. 1. С. 60-64.
- Соловьева Н. А. У истоков английского романтизма. М.: МГУ, 1988. 232 с.
- Baring-Gould S. A Book of Ghosts. New York: G. P. Putnam's Sons, London: Methuen, 1904. IV, 383 p.
- Baring-Gould S. Strange Survivals. Some Chapters in the History of Man. London: Methuen & Co., 1892. 287 p.
- Bennett G. Alas, Poor Ghost! Traditions of Belief in Story and Discourse. Logan: Utah State University Press, 1999. VII, 223 p.
- Brewster S. Casting an Eye: M. R. James at the Edge of the Frame // Gothic Studies. 2012. Vol. 14(2). P. 40-54.
- Buchan J. The Runagates Club. London: Hodder and Stoughton Limited, 1928. 331 p.
- Conan Doyle A. The Great Keinplatz Experiment and other Tales of Twilight and the Unseen. New York: George H. Doran Company, 1925. 254 p.
- Haverfield R. The Romanization of Roman Britain. Westport, Connecticut: Greenwood Press, 1979. 91 p.
- Heron E. and H. Flaxman Low, Occult Psychologist. Collected Stories. URL: http://gutenberg.net.au/ebooks06/0605811h.html (дата обращения: 01.10.2019).
- Hughes W. Historical Dictionary of Gothic Literature. Lanham, Toronto, Plymouth, UK: The Scarecrow Press, 2013. XXIV. 318 p.
- Hurley K. The Gothic Body. Sexuality, Materialism and Degeneration of the Fin de Siecle. Cambridge: Cambridge University Press, 1996. XII. 202 p.
- James M.R. Ghost Stories. London: Penguin Books, 1994. 362 p.
- Kedra-Kardela A., Kowalczyk A. S. The Gothic Canon: Contexts, Features, Relationships, Perspectives // Expanding the Gothic Canon: Studies in Literature, Film and New Media. Frankfurt am Main: Peter Lang AG, 2014. P. 13-49.
- Killeen J. The Emergence of Irish Gothic Fiction. History, Origins, Theories. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2014. VIII. 240 p.
- McClelland B. A. Slayers and their Vampires. A Cultural History of Killing the Dead. Ann Arbor: The University of Michigan Press, 2006. XVIII. 260 p.
- Mighall R. A Geography of Victorian Gothic Fiction. Mapping History's Nightmares. Oxford: Oxford University Press, 1999. XXV. 312 p.
- Senf C. A. Dracula and The Lair of the White Worm. Bram Stoker's Commentary on the Victorian Science // Gothic Studies. 2000. Vol. 2(2). P. 218-231.
- Stoker B. The Lair of the White Worm. Ontario: Devoted Publishing, 2016. 78 p.
- Tylor E. B. Primitive Culture: Researches into the Development of Mythology, Philosophy, Religion, Language, Art, and Custom: in two Volumes. Vol. 1. London: John Murray, Albemarle Street, 1891. 502 p.
- Youngs T. Beastly Journeys. Travel and Transformation at the fin de siècle. Liverpool: Liverpool University Press, 2013. X. 225 p.