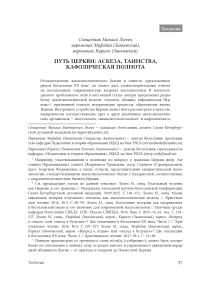Путь церкви: аскеза, таинства, кафолическая полнота
Автор: Легеев Михаил Викторович, Зинковский Мефодий, Зинковский Кирилл
Журнал: Христианское чтение @christian-reading
Рубрика: Теология
Статья в выпуске: 2 (73), 2017 года.
Бесплатный доступ
Отождествление экклезиологического бытия и таинств, предложенное рядом богословов XX века, не может дать удовлетворительные ответы на поставленные современностью вопросы экклезиологии. В контексте данного проблемного поля в настоящей статье авторы продолжают разработку экклезиологической модели «человек, община, кафолическая Церковь», призванной описать исторические процессы, образующие жизнь Церкви. Внутреннее устройство Церкви может быть рассмотрено в качестве иерархически сосуществующих друг в друге различных экклезиологических организмов - ипостасного, синаксисо-ипостасного и кафолического, каждый из которых автономно владеет присущим ему собственным достоянием, выступающим одной из движущих «сил» Церкви в истории. Аскеза и таинства (включая величайшее и совершеннейшее из них - Евхаристию)не составляют еще полноту кафолического бытия Церкви и, таким образом,не могут быть отождествлены с жизнью Церкви и церковностью как таковой. Причины этого могут быть раскрыты через рассмотрение значения,устройства, а также взаимного отношения каждого из «уровней» экклезиологического бытия (человека, общины, кафолической Церкви), с учетом синергийного взаимодействия Церкви, взятой в ее внутреннем устройстве и историческом развитии, с Лицами Святой Троицы.
Богословие истории, экклезиология, аскеза, таинства, кафоличность, церковь, община, первенство в церкви, устройство церкви, троичность, богочеловеческий организм, развитие богословия
Короткий адрес: https://sciup.org/140190296
IDR: 140190296
Текст научной статьи Путь церкви: аскеза, таинства, кафолическая полнота
В вышеуказанных статьях4 нами была обозначена и в самых общих чертах обоснована и рассмотрена следующая экклезиологическая модель:
-
— человек как Церковь
-
— община как Церковь5
-
— единая и кафолическая Церковь
Каждый из «уровней» этой модели может быть рассмотрен как Церковь , то есть каждое (человек, община, единая Церковь) может именоваться Церковью, последовательно прообразуя6 и в определенном смысле моделируя в себе последующую ступень экклезиологи-ческого бытия.
В настоящей статье мы продолжим обоснование и рассмотрение этой модели с точки зрения границ и объемов церковного достояния на каждом из рассматриваемых уровней экклезиологического бытия. Иными словами, нас будет интересовать вопрос, чем из церковного достояния, последовательно сообщающего Церкви само ее бытие7, автономно и самовластно владеет, или способен владеть, отдельный церковный член, чем — община, и, наконец, чем — единая и кафолическая Церковь?
В предельных степенях обобщения и выражения этого достояния, формирующего жизнь Церкви (более того, формирующего ее именно в истории), оно может быть сведено к следующим немногим пунктам, представляющим как бы некий слепок с самой экклезиологической модели:
— аскеза
— таинства
-
— кафолическая полнота церковного бытия8
-
2. Церковное достояние в его отношении к самой Церкви: исторические попытки разрешения проблемы
-
3. Кафолическая полнота как достояние всей Церкви
Аскетическая жизнь человека, его участие в таинствах Церкви и его причастие к кафолической полноте — вместе — составляют силу, движущую человека к Богу, устрояют его бытие в Церкви и бытие как Церкви 9, образуют его отношения со Христом и всей Святой Троицей. Вместе они представляют собой путь Церкви. Таким образом, отношению этих трех неотъемлемых, глобальных компонентов церковной жизни друг с другом и к самой Церкви и будет посвящена настоящая статья.
Проблема церковного достояния, особенно же в корреляции его с бытием самой Церкви, была поставлена некогда карфагенской богословской школой, когда еще в III веке такие крупнейшие ее представители, как Тертуллиан и священномученик Киприан Карфагенский, были заняты вопросом самоидентификации Церкви в отношении к отколовшимся от нее сообществам10. Так, принято считать, что вопрос отношения Церкви и ее таинств впервые был поднят святым Киприаном в трактате «О единстве Церкви». Однако в скрытом виде этот вопрос присутствует уже у Тертуллиана, несомненно, оказавшего на св. Киприана определенное богословское влияние11. Эти богословы придерживались точки зрения, отождествляющей церковное достояние (св. Киприан здесь ясно говорит именно о таинствах, тогда как Тертуллиан, фокусируясь на Священном Писании и вере Церкви, ставит вопрос в более общем виде12) с бытием самой Церкви. «Где Церковь, там и таинства»13, — такой простой формулой можно описать позицию великого карфагенского святителя в этом вопросе. Последующий ход истории в известной степени если и не опровергнет, то, по крайней мере, подвергнет серьезному сомнению точку зрения святого Киприана, чему свидетельством будет каноническая практика приема в Церковь членов внецерковных христианских сообществ, у которых Церковью будет признаваться наличие некоторых таинств, пусть и в ущемленном и, так сказать, внецерковном виде14. Святитель Василий Великий обоснует возможность признания некоторых таинств вне Церкви15. Блаженный Августин Иппонский, очевидно полемизируя с богословием Тертуллиана и святого Киприана в данном вопросе, разведет понятия церковного достояния (включая и таинства) и кафолического бытия Самой Церкви: «Всё можно иметь вне Церкви, кроме спасения. Можно иметь таинства… Евангелие… веру в Отца и Сына и Святого Духа, и проповедовать ее, но нигде, кроме Кафолической Церкви, нельзя обрести спасения»16. Несмотря на наличие столь разных подходов, вопрос об отношении самого бытия Церкви и ее таинств так и не будет раскрыт в церковном богословии; первые подступы к возобновлению его решения мы видим в начале XX столетия, когда перед церковной мыслью встанут вопросы предельного раскрытия модели Церкви. Эти первые попытки начнутся с того, что парадигма мышления святого Киприана «Где Церковь, там и таинства», интерпретированная и трансформированная в формулу «Где Церковь, там и таинства = где таинства, там и Церковь», станет отправной точкой в так называемом вопросе о границах Церкви в позициях абсолютно всех участников соответствующей полемики, независимо от их богословских выводов, порой противоположных друг другу17. Этот путь приведет к богословскому тупику18 (подобному многим предшествующим тупикам19), что побудит церковную мысль к поиску иных решений, представляющих существо дела в иной плоскости и опирающихся на подход свв. Василия Великого и Августина Иппонского, разделявших (по крайней мере, в некотором отношении) личное бытие Церкви и ее таинств.
Аскезе, как другой (вместе с таинствами) важнейшей составляющей пути человека к Богу и, соответственно, исторического пути самой Церкви, на первый взгляд, уделялось менее чисто богословского внимания в плане ее отношения к бытию самой Церкви, таинствам и т. д. Своеобразной попыткой отождествления аскезы человека и церковного бытия как такового можно полагать еретическую доктрину мессалиан-ства, отрицающего таинства и сводящего весь путь человека в Церкви (и, соответственно, самой Церкви) к одной аскезе.
Исключая это достаточно экзотическое внецерковное течение, в самой Церкви неизменно представлялось достаточно очевидным существенное различие аскезы и таинств, а, следовательно, не вставал и не мог предполагаться вопрос о тождестве или нетождестве аскезы и кафолического бытия Церкви. Аскеза мыслилась Церковью прежде всего как личный путь отдельно взятого человека, необходимо созидающий, впрочем, и путь всей Церкви. Даже умаляя значение аскезы вне Церкви, святые отцы почти никогда не доходили до ее полного отрицания, признавая труд ради Христа во внецерковных сообществах всё же за некий подвиг, а не за пустой звук, хотя бы этот подвиг вне Церкви и не мог послужить спасению человека20.
Итак, если бытие Церкви не исчерпывается ни аскезой, ни таинствами (ни даже их совокупным действием), то что же представляет собой бытие Церкви как таковой , Церкви, взятой как целое, в ее кафолической полноте? Для решения этого вопроса необходимо, прежде всего, обратиться к внутреннему устройству, внутренней структуре, которую, несомненно, имеет каждый из «элементов» нашей экклезиологической модели (т. е. человек, община и всецелая Церковь) и в которой они отличаются друг от друга.
Как некий ипостасный21, внутренне сложный организм, каждый из этих «элементов», то есть всё, именуемое Церковью, видится через многое, но определяется через немногое. Так, община есть совокупность людей, ее членов; но она есть и то, что принципиально превышает эту совокупность. Этот «превышающий компонент» общины — священная иерархия, носительница таинств, таинственной жизни церковной общины, за которой стоит в полном смысле этого слова Сам носимый иерархией и передаваемый ею в таинственной жизни церковным членам Христос.
Но точно такой же ход мыслей может быть применен и к всецелой кафолической Церкви. С видимой и наиболее очевидной стороны, она представляет собой совокупность общин (как община — совокупность людей, членов). За этой видимой стороной Церкви пребывает ее Глава, Христос, но и не только (!); за видимой стороной Церкви равно пребывает стоящий за Христом и домостроительно ниспосылаемый Им Церкви Святой Дух, полнота соприсутствия Которого со Христом (включая полноту человечества Христова) являет и показывает ипостасный контекст бытия кафолической Церкви в самом ее основании и зерне. Ведь Христос уже есть Церковь22; и есть Церковь именно потому, что Он — человек, а не только Бог; человечество же Его всеосвящено сопребывающим с Ним Духом с самого момента боговоплощения. Именно благодаря этому изначальному и непреложному участию человечества Христова в полноте общения с троической жизнью Бога Христос именуется Церковью в Самом Себе и ее Главою. Носителем этого имени («Церковь») изначально выступает сама Ипостась Христа, осеняемая Духом23.
Как предвечно Святой Дух исходит от Отца и почивает во Отце и Сыне, так и в домостроительном плане бытия Дух Святой преподается Сыном и почивает на (или в) членах Его Церкви, собирая их, соединяя в одно и соделывая Церковью, присоединяя их к той кафолической полноте Церкви , которая уже заключена в ипостаси Сына и осеняется неизменно соприсутствующим Ему Духом. Взаимная связь и забота друг о друге всех частей и членов Церкви свидетельствует об этой пол-ноте24. Можно провести следующую аналогию между ипостасным организмом отдельного человека (то есть отдельной ипостасью) и таким, более сложным, образом ипостасного бытия, как кафолический организм Церкви. Кафолическая полнота распространяется от Христа на весь состав организма Церкви, подобно тому, как ипостасное бытие отдельно взятого человека, имеющее свою опору в его воипо-стасном духе (содержимом Богом и сообщаемом с Ним) 25 , простирается до всех пределов и границ воипостасной человеку природы, сообщаясь всему составу человека .
Дух Святой направляет и освящает отдельного человека, собирает общину; но во всех этих собираниях и освящениях еще не обнаруживает Себя как всесобирающий , или, л учше сказать, напротив, обнаруживает
Себя таковым именно в силу принадлежности человека и общины единой Церкви. То есть Он обнаруживает себя как всесобирающий тогда и настолько, когда и насколько человек и община существенно вошли в Церковь , обретя через дело Духа проникновение в ипостасную жизнь других частей, равно как и обладание своей природой, природой Церкви. Лишь Христос, Его единственная Ипостась на всех пределах грандиозного ипо-стасного, синаксисо-ипостасного и кафолического бытия Церкви, является совершенным обладателем природы Церкви26, вместе же с тем являет совершенное, но и ненавязчиво-деликатное проникновение в ипостасную жизнь других частей Церкви (и даже всего мира)27.
-
4. Автономность человека, общины и кафолической Церкви: границы и возможности
Различие кафолической Церкви и Церкви-общины, составляющей (в числе прочих общин), как часть, эту Церковь, становится очевидным не только через различие их структуры, но и через личностно-ипостас-ные характеристики того и другого сосуществующих друг в друге организмов, каковые характеристики могут быть выражены через понятие, или принцип, самовластности или автономности28.
Действительно, община есть вполне автономный и своего рода самовластный синасксисо-ипостасный организм, подобный автономному и самовластному организму отдельно взятого человека. Единая Церковь же, которая объемлет в себе как жизнь составляющих ее общин, так и отдельных человеческих ипостасей, есть организм не просто автономный и самовластный, и не просто ипостасный и синаксисо-ипостасный, но — кафолический, то есть всецелый. Итак, единая Церковь есть ипо-стасное , синаксисо-ипостасное и кафолическое бытие, или организм29.
Автономность, или самостоятельность, каждого из трех уровней данной экклезиологической модели (человека, общины и всецелой Церкви) позволяет говорить об определенной независимости и даже, при определенных исторических условиях, недовоцерковленности человека или даже общины по отношению к единой и кафолической Церкви. Живя общей со Христом и всецелой Церковью жизнью, отдельно взятые человек или даже община (то есть члены или части Церкви Христовой) имеют в себе некую область зазора со Христом, некую область историче-ски-греховного бытия, еще только надлежащую к восстановлению, к пе-рихористическому взаимопроникновению со Христом, что и является, так сказать, их внутренней исторической задачей.
Община является носителем Христа, но не может, так сказать, сама по себе являться совершенным пребывалищем Святого Духа — поскольку Дух Святой являет Себя (и, вместе с тем, образ Своего действия) совершенно лишь там и тогда, где и когда обозначается общение и единство всей Церкви, всех ее частей и членов. Ибо где только часть 30 , там не может быть полноты присутствия Духа . А община же, как и отдельный человек, всегда будет иметь признаки частной обособленности (в лучшем случае, выраженной как вектор пути ко Христу) и недостаток всех свойств Церкви (единства, святости, кафоличности и апостоличности) — недостаток, так сказать, самой церковности в сущностном аспекте бытия Церкви.
Элемент недо-воцерковленности, возможный для каждой общины31, как и для отдельного человека, полагает границы их автономности32.
Оборотною стороною этого факта выступают возможности общины и человека — то реальное достояние Церкви, на котором останавливается, достигая своего порога и границ, их власть и свободное, самовластное владение 33.
Будучи носителем Христа, община с ее священной иерархией является владетелем, распорядителем и преподателем таинств Церкви. Так, таинства всегда принадлежат общине и совершаются в общине. В таинствах являет себя Христос; община же и ее члены лишь в меру своей готовности соединяются со Христом Духом Святым, участвуя в таинствах. Можно сказать и так, что таинства есть Сам Христос, являющий Себя в них, Христос, донесенный иерархией Церкви до каждого церковного члена через расстояния и века. Но Кафолическая Церковь, превышающая отдельно взятую общину, есть в ипостасном смысле большее, чем один Христос, стоящий у врат человеческого сердца («Се, стою у двери и стучу», Откр 3:20). Созидаемая Святым Духом, Она есть полнота пребывания Святой Троицы с человеком. Итак, через таинства соделывается Церковь, но сами таинства не есть Церковь. Вернее сказать, таинствами не ограничивается Церковь, — насколько кафолический организм Церкви не ограничивается своею Главою — Христом34.
Отдельный человек, в отличие от общины, имеет меньше «личных прав» как Церковь: он не способен сам по себе распоряжаться ни кафолической полнотой, ни таинствами, обладая ими (в меру своей святости) как член и часть своей общины и всей кафолической Церкви. Будучи путем Церкви, аскеза есть, прежде всего, путь отдельного человека. Представляя собой тот же самый исторический путь отношений человека и Бога, что и таинства35, в отличие от них аскеза имеет свой корень в воле и действиях самого человека, конкретной человеческой ипоста-си 36, точно так же, как таинства, при всем значении их для конкретного человека, как и для всецелой Церкви, практически коренятся в жизни и бытии общин, управляемых священной иерархией37.
-
5. Автономность и перихоресис
-
6. Отображение бытия и дела Святой Троицы
(личности, общины, кафолической Церкви)
Следует отметить, что автономность отдельного члена Церкви никоим образом не отменяет автономность общины, его включающей, так что отдельный человек способен действовать как часть общины, сообразуя свою волю с волею церковной иерархии, но, вместе с тем, в силу своей избирающей и пока еще неустойчивой свободы способен действовать также и вопреки тому, к чему его призывает Церковь в лице священной иерархии общины. Совершенно подобным же образом обстоит дело и в отношении уже самой общины к кафолической, всецелой Церкви: иерархия общины38 способна и стремится к тому, чтобы действовать как органическая часть всецелой Церкви, сообразуя свою волю и всякое действие с волею Христовой (о чем и говорит св. апостол Павел: «Мы имеем ум Христов», 1 Кор 1:16). Однако, несмотря на это, община в лице своей иерархии порою способна также и отклонять свои действия от воли, мыслей и чувств Божиих (которым всегда сообразны человеческие воля, мысли и чувствования Христа). То есть община бывает способна действовать вопреки Христу, кафолическому Главе всей Церкви, и эта способность возникает именно в силу нетождественности общины и кафолической Церкви39.
При этом ипостасная автономность человека и синаксисо-ипостасная автономность общины сами по себе с необходимостью не представляют дефект и разногласие (с кафолической Церковью), но означают возможность такого дефекта и разногласия в условиях исторического бытия Церкви «воинствующей». Сама по себе ипостасная автономность, выраженная в свободе действия, способна и призвана в конечном счете к эсхатологическому преодолению40 неустойчивости выбора, к неуклонному стоянию в кафолической полноте и гармоничному вписыванию в красоту этой ипостасной цельности.
Образом и залогом этого непреклонного стояния являются в то же время исторические жизнь и устройство Церкви41. Церковь есть живой организм, а его устроение предполагает перихоресис и синергию его самостоятельных частей и членов друг с другом и со всецелым церковным организмом. Аскеза, таинства и кафолическая полнота выступают одним путем Церкви, где каждому составляющему Церковь организму отведены свои дело, власть и предел. Так, в таинствах в той или иной мере соединяется со Христом человек (сообразно мере своей личной аскезы), сама же община являет всецелого Христа. Но и человек, и община оказываются приобщены кафолической полноте не сами по себе, но как участники и части единой и неразделенной Церкви Христовой. Человек же, хотя и причащается сообразно мере своей личной аскезы, но оказывается участником этого причастия и вообще жизни во Христе — как часть общины42; а оказывается причастен кафолической полноте церковности — как часть всецелой Церкви43.
в устроении Церкви
Итак, мы определили, что источником аскезы является отдельный человек, член Церкви; источником же таинства — община во главе с иерархией. Источником же церковности и, так сказать, Церкви в ее частях и членах44 является сама единая кафолическая Церковь45.
Однако у этого троического пути Церкви (аскезы, таинств и кафолической полноты общения) есть и другой, таинственный источник — не непосредственный, но выступающий прообразом и парадигмой созидаемой и созидающей Церкви. Таинственная жизнь Святой Троицы, находящая свое домостроительное выражение, видимое человеку, в триедином образе действия Божественных Ипостасей46, прообразует дело Церкви. Так, источником труда и аскезы является для человека образ и пример Отца47, явленный, впрочем, через Сына, ставшего источником духовного отечества в Церкви, таким образом, ставшего духовным отцом всем нам48. Источник таинств (и, вместе с ними, природы Церкви) — Сам Христос (не просто по человечеству или Божеству, но — по ипостаси). И, наконец, источник бытия Церкви — Святой Дух, созидающий Церковь как подлинное синаксисо-ипостасное и кафолическое бытие49.
Можно говорить и о таком образе. Аскеза , личное усилие человека, таинственно отображает путь Отца в человеке (Которому принадлежит начаток всякого личного усилия 50). Таинства , несущие Сына Божия, отображают и представляют Сына, кенотически обращенного к Отцу51, а затем и к миру. А Сама единая Церковь , одухотворяемая всецелым Духом, являет в Себе и образ того же Духа, исходящего от Отца и почивающего во Отце и Сыне — то есть, во образе (в данном образе) имеющего своим «источником» аскезу и личный труд человека, и, с другой стороны, почиванием Своим освящающего участие человека в таинстве в духовную меру этой аскезы.
В отличие от общины, единая Церковь не представляет собой какой-либо видимой единой иерархии 52. Ее иерархия есть Сама Троица: Глава Церкви Христос и сопребывающие Ему Отец и Дух Святой. Эта невидимая иерархия прообразует путь Церкви и, одновременно, содействует этому пути, сопроникает этот путь. Как в аскезе, так и в таинствах, так и в собственно бытии Церкви равно обнаруживает себя принцип синергии Бога и человека.
В следующей таблице приводится сопоставление различных аспектов экклезиологической модели.
|
человек |
община |
кафолическая Церковь |
|
Возглавляется53 |
||
|
духом человека |
епископом54 |
Главою Христом |
|
Имеет следующий характер ипостасного бытия |
||
|
ипостась; ипостасный организм |
синаксисо-ипостасный организм |
синаксисо-и кафолическо-ипостасный организм |
|
Владеет (как самостоятельный, имеющий ипостасный характер, организм, совершая это владение и сообщая его нижестоящему органическому члену) |
||
|
Аскезой , сообщающей путь ко Христу |
Таинствами , сообщающими Христа и предлагающими жизнь с Ним и в Нем |
Кафолической полнотой , сообщающей церковность как таковую |
|
Особым образом отображает в своем владении (прообразуемое в жизни и домостроительстве Святой Троицы) |
||
|
Дело Отца |
Дело Сына |
Дело Святого Духа |
|
Как осуществляется это отображение? |
||
|
Человек есть носитель в себе Ветхого Завета, пути труда, аскезы и созидания, прообразуемого образом вневременного бытия и домостроительного действия Отца55; носитель |
Сын передает Себя через века Церкви, передает церковной иерархии и всей Церкви, и вместе с тем каждому церковном члену — через иерархию, т. о. через жизнь и бытие |
Дело Святого Духа сообщается частям и членам Церкви, соделывая их Церковью; так же как дело Сына Божия сообщается ее членам, также соделывая их Церковью; |
53 Подробнее об этом см. в статье: Легеев М., свящ . Богословие истории… С. 149–153.
54 Тройственная структура, отраженная в схеме «человек-община-Церковь», имеет свое условное отражение в тройственной иерархии «диакон-священник-епископ» (представляющее собой, по сути, отражение структуры общины, спроецированной на общее устроение Церкви). Любой мирянин может, скажем, крестить, как и диакон, в случае опасности жизни, а царь причащался как диакон. Священники — основные видимые действующие лица общин, епископы — основные видимые действующие лица кафолической Церкви на соборах.
55 «Рождение Отцом Сына отображается в восхождении творения к Богу и рождении Сына Божия по человечеству от Пресвятой Богородицы, собравшей в Себе труд многих поколений праведников — труд истории человека в его отношениях с Богом» (Легеев М., свящ. Богословие истории… С. 139. Подробнее см.: Там же). В человеке этот вектор пути выражается через «зачатие и рождение в верных Христа» (Ср.: Симеон Новый Богослов, прп. Слово 45 // Он же. Творения: в 3 т. Сергиев Посад: Свято-Троицкая Сергиева лавра, 2014. Т. 1. С. 443. Гл. 9; Ипполит Римский, сщмч. Изложение на основании Священного Писания человек
община
ветхозаветного пути всего человечества ко Христу. Но как член общины он — носитель уже и Нового За-
вета, участник таинств в
присущую ему меру, ученик Христов, свидетель о деле Христовом. Как член же кафолической Церкви (сообщающей свою церковность и полноту общинам и их членам) он под-
общинного бытия Церкви. Делом Святого Духа Христос становится и пребывает Главою всецелой Церкви, а исполнением воли Отца — Он же становится началом
всякого духовного отечества для церковных членов, научая их пути к Богу и становясь содержанием и реально-
кафолическая Церковь однако лишь начинаясь делом Отца, лично продолженным в церковных членах, конкретных человеческих ипостасях, труд всецелой Троицы, отображаясь в церковных жизни и бытии, становится конкретным, реальным и историче-ски-особенным трудом и путем всей Церкви.
линно есть
.
стью этого
.
Многомерность богословия Церкви подает повод к реверсированию данной схемы. Так, например, возможно указать, что дело Духа вершится таинственно и на личном уровне каждого человека (призвание, вопи-яние в сердцах «авва Отче», сподвигание к подвигу ради Христа (именно Дух ведет нас ко Христу, а значит, и к Его таинствам). С другой стороны, дело Отца, на уровне кафолической Церкви, можно видеть в одновременно единящем и различающем действии, как в рождении и изведении себе равных и отличных одновременно Сына и Духа. Тогда Отец, преподавая Церкви Сына, единит ее Им, а преподавая Духа, ограничивает ипостасные различия Им в ней.
Но нам важно понимать исторический контекст обозначенной нами схемы. Святой Дух потому-то и открывает человеку Христа, что это открытие совершается в кафолической полноте Церкви и через нее; так сказать, в деле Святого Духа в отдельном церковном члене являет себя дело и действие кафолической Церкви, живущей Духом. Подобным образом и дело Отца, совершаемое в кафолической Церкви, единит и различает ее, но это единение и различение зарождается и начинается в отдельном человеке: Отец соделывает его тождественным Христу через подражание Ему56 и участие в таинствах; соделывая же каждого человека подлинным о Христе и антихристе // Он же. О Христе и антихристе. СПб.: Библиополис, 2008. С. 250–251. Гл. 61; Мефодий Патарский, сщмч. Пир десяти дев // Отцы и учители Церкви III века. Антология: в 2 т. М., 1996. Т. 2. С. 435. 8:8), осуществляемое через аскезу и участие в таинствах.
лично-ипостасным образом бытия, Он, Отец, через это ипостасирова-ние отдельных личностей, возводит и всё строение Церкви, действуя, как двумя «руками»57, Сыном и Духом.
-
7. Заключение
В личной и малой священной истории человека, церковного члена, разворачивается и отображается Священная История мира — история Ветхая, Новая и, наконец, Церкви. Святая Троица открывается (открывая Свой триединый образ действия) человечеству постепенно, что связано с постепенным ипостасным вызреванием самого человечества, вызреванием его отношений с Богом58. Этот же самый путь истории проходит и как бы повторяет и отдельный человек, член Церкви. Сама же Церковь Христова, кафолическая в своей полноте и единстве59, имеет этот путь заключенным в себе уже не как путь восходящей динамики к полноте общения со Святой Троицей, но как свою внутреннюю структуру, через которую в Церкви непрестанно и органично 60 открывается и свидетельствуется то, что прежде имело историческую последовательность .
Путь кафолической Церкви историчен, и эта история имеет свою логику и свои этапы; но эта логика кафолического пути и эти этапы отражают, выражают и изображают уже не путь человека и человечества к полноте отношений со Святой Троицей, но — исторический путь Самого Христа, Главы Церкви, путь Его общественного служения, который был путем раскрытия для человека , но не вызревания в себе самом
(то есть в земном пути Христовом) святости и совершенства богочеловеческого бытия и общения.
Осмыслению исторической логики церковного пути, простирающегося от ее исторического торжества к ее историческому умалению и ке-нозису, мы планируем посвятить отдельную статью.