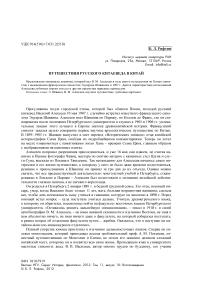Путешествия русского китаеведа в Китай
Автор: Рифтин Борис Львович
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Исследования
Статья в выпуске: 10 т.11, 2012 года.
Бесплатный доступ
Представлены материалы дневника, который вел В. М. Алексеев в ходе своего путешествия по Китаю совместно с выдающимся французским синологом Эдуардом Шаванном в 1907 г. Дается характеристика исследований Алексеевалубочных картин няньхуа идругимпредметамнародных промыслов.
Э. шаванн, в. м. алексеев, научное путешествие, лубочные картинки
Короткий адрес: https://sciup.org/14737678
IDR: 14737678 | УДК: 914(510)+7.031.2(510)
Текст научной статьи Путешествия русского китаеведа в Китай
Прогуливаясь подле городской стены, которой был обнесен Пекин, молодой русский китаевед Василий Алексеев 10 мая 1907 г. случайно встретил известного французского синолога Эдуарда Шаванна. Алексеев знал Шаванна по Парижу, по Коллеж де Франс, где он стажировался после окончания Петербургского университета и слушал в 1905 и 1906 гг. увлекательные лекции этого лучшего в Европе знатока древнекитайской истории. Французский синолог задался целью совершить первое научное археологическое путешествие по Китаю. В 1895–1905 гг. Шаванн выпустил в свет перевод «Исторических записок» отца китайской историографии Сыма Цяня, снабдив их подробнейшими комментариями. Теперь он хотел на месте ознакомиться с памятниками эпохи Хань – времени Сыма Цяня, главным образом с изображениями на каменных плитах.
Алексеев попросил разрешения присоединиться, и уже 16 мая они вдвоем, не считая нанятых в Пекине фотографа Чжана, мастера по снятию натерок с каменных стел Цзуна и слуги Суна, выехали из Пекина в Тяньцзинь. Так неожиданно для Алексеева началось самое интересное в его жизни путешествие, к которому у него не было даже времени подготовиться, решение о присоединении к Шаванну он принял за три дня до их отъезда. Однако можно сказать, что все предшествующей деятельностью: многолетней учебой в Петербурге, стажировками в Лондоне и Париже – Алексеев был подготовлен к познанию китайской действительности глазами знатока, а не заезжего верхогляда.
Он родился в Петербурге 2 января 1881 г. в бедной трудовой семье. Его отец, военный писарь, умер, когда Василию было только 11 лет, мать, больная неграмотная женщина, сделала все, чтобы дать возможность сыну учиться в гимназии, которую он закончил в 1898 г. Перед юношей встал вопрос – куда поступать учиться дальше. Учитель древнегреческого языка, к которому он обратился, посоветовал пойти на факультет восточных языков Петербургского университета. «Оставалось решить дальнейшую специализацию, – писал в 1918 г. в своей автобиографии В. М. Алексеев, – не имея никакой склонности к изучению Востока, не зная о нем абсолютно ничего, не зная ничего даже о факультете, на который собирался поступать, я решил вопрос об отделении факультета путем… жребия. Оказалось, что я поступаю на китайско-монголо-маньчжурское отделение».
Полный упорства юноша приступил к изучению дальневосточных языков. Сперва он увлекся монгольским, который преподавал весьма требовательный проф. А. М. Позднеев, известный путешественник по Монголии и Китаю, но потом его захватил целиком сложный китайский текст, которому он и посвятил всю свою жизнь. Преподавали язык в университете маститые синологи: акад. В. П. Васильев, автор многих трудов по буддизму, его ученик
ISSN 1818-7919
Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2012. Том 11, выпуск 10: Востоковедение © Б. Л. Рифтин, 2012
-
А. О. Ивановский, переводчик конфуцианских классиков П. С. Попов. Но преподавали, судя по воспоминаниям самого Алексеева, плохо, вселяя в учеников не столько надежду на успешное усвоение китайского языка, сколько пессимизм относительно возможности овладеть им когда-нибудь.
-
В. М. Алексеев поступил на факультет восточных языков тогда, когда начиналось строительство КВЖД – железной дороги из Сибири через Харбин до Пекина. Желающих попасть на китайское отделение было едва ли не сотня, но 90 % из них были молодыми людьми, мечтавшими о карьере и не имевшими ни склонностей, ни желания по-настоящему изучать многовековую историю и культуру Китая. «Научного видения я среди товарищей своих по курсу не замечал, – вспоминал В. М. Алексеев, – общая тенденция была исключительно практическая. С совершенно серьезной миной уверяли, например, меня мои старшие товарищи, что единственно важным предметом изучения должен являться… английский язык, нужный для действительной жизни дипломата. Все же остальное, по уверению их, нужно было исключительно для получения диплома». Не одобряя этих карьеристских устремлений, Алексеев бескорыстно стремился к знаниям, к умению читать сложный китайский текст. В университете изучали практически лишь Китай официальный и его основные учения: конфуцианство, буддизм, в известной мере даосизм, жизни народной не уделялось внимания. Да и тому, по признанию Алексеева, учили крайне бессистемно.
Но вот курс был пройден, и вновь встала проблема, как быть дальше. Алексеев не поступил на работу в МИД, уклонившись от обычного пути тогдашних выпускников факультета восточных языков, да и сделать это он по бедности своей не мог – в течение года или двух новичок должен был тогда работать, не получая никакого жалованья. Он остался при кафедре для подготовки к профессорскому званию.
«Оставленный при университете, я совершенно растерялся. Незнание иностранных языков настолько, чтобы читать все нужное, незнание самого китайского языка, и притом столь жуткое и явное, что буквально не мог самостоятельно решить смысл первой же длинной фразы, полное безразличие к предмету изучения, т. е. к той или иной отрасли китаеведения, – все это повергало меня в неописуемое уныние», – писал В. М. Алексеев 16 лет спустя.
Преодолеть этот пессимизм ему помогло участие некитаистов – арабиста В. Р. Розена и индолога С. Ф. Ольденбурга: первый посоветовал проштудировать английские переводы сочинений конфуцианского канона, а второй помог в 1904 г. поехать в Англию, Францию и Германию, а затем в 1906 г. для совершенствования в китайском языке в Пекин.
После Англии, где он пробыл довольно долго, работая в Британском музее и посетив Оксфорд и Кембридж, Алексеев едет в Париж. Там он увидел бурлящую научную жизнь, новые направления, о которых в России или Англии ничего не было известно. Через много лет, в 1948 г., В. М. Алексеев писал: «Лондон–Оксфорд–Кембридж были не необходимы. <…> Надо было в 1904 г. ехать в Париж, и только, ибо школа была там! Потерял время и ориентиры» [Баньковская, 2010. С. 38]. Париж, где бурлила новая наука, читались новые по-настоящему научные курсы, ошеломил Алексеева. И 7 февраля 1906 г. он записал в дневнике: «Нужно поменяться и начать новую форму служения человечеству. Нужно (?) идеалы на идеалы, и идти вперед… Только одними новыми течениями и может жить человечество – в обновлении идей» [Дневник 1906 г., 1 января – 23 июня] 1.
В Париже В. М. Алексеев слушал лекции разных маститых ученых, но больше всего его привлекали яркие лекции Эдуарда Шаванна о Конфуции, его философии и культе, приписываемой ему самой ранней летописи «Весны и Осени». И, конечно, о Сыма Цяне. Это были живые научные доклады, как писал Алексеев, Шаванн «творил науку на виду». Шаванн часто приглашал его домой для бесед на разные синологические темы, между учителем и учеником сложились близкие отношения. Поэтому неожиданная встреча на улице в Пекине в 1907 г. стала продолжением их знакомства.
Еще в пору студенчества в руки Алексеева попала красочная китайская новогодняя картинка, изображающая бога долголетия Шоу-сина и снабженная соответствующей благожелательной надписью. Он пытался расшифровать надпись на народном лубке, понять заключенную в картине символику, тщетно обращался к своим учителям, даже к лектору-маньчжуру, выписанному из Китая, – никто ничего ему не объяснил. После окончания университета В. М. Алексеев был приглашен на внештатную работу в Эрмитаж для разбора нумизматических коллекций, китайских и японских. И здесь он снова столкнулся с Китаем неофициальным, простонародным, поскольку кроме обычных монет там оказалось и немало монетовидных амулетов, носимых китайцами с целью отвращения нечисти. Чтобы разобраться в них и правильно перевести надписи, Алексееву нужно было знать китайскую народную религию – сложное соединение древних, во многом еще шаманистских верований, элементов позднего даосизма, буддизма и отчасти конфуцианства. В университете этому не обучали, и до всего приходилось доходить, что называется, своим умом. Спустя несколько лет Василий Михайлович продолжит изучение этих амулетов в Нумизматическом отделе Британского музея и Кабинете медалей Национальной библиотеки в Париже. Он намеревался даже написать диссертацию на эту тему.
Поэтому в Пекине Алексеева в первую очередь интересовал Китай живой, народный, который можно было наблюдать на шумных торговых улочках, в сельских харчевнях и многочисленных маленьких храмах, посвященных не только официальным божествам, чтимым по всей Поднебесной, но и персонажам местного культа, или даже какой-нибудь обитающей подле деревни лисице, почитаемой святой. Столкнувшись с народной жизнью в 1906 г., он был столь захвачен ею, что стал списывать вывески разных лавок, всякие благожелательные изречения, висевшие в харчевнях или каллиграфически написанные на столбах, поддерживавших балконы вторых этажей, на стенах домов и храмов. На одном из винных заведений ему попадается параллельная надпись: «Ли Бо, учуяв наше вино, тотчас же спустится с коня / Лю Лин, познав аромат, тут же остановит повозку», и он переписывает ее по-китайски. Эта своеобразная реклама понятна была каждому китайцу, потому что общеизвестно пристрастие великого поэта VIII в. Ли Бо к вину, по преданию, утонувшего в озере, когда он в пьяном виде попытался выловить из воды отражение луны. Точно так же популярен образ поэта и знаменитого бражника III в. Лю Лина, который брал с собой в повозку жбан вина, когда ехал кататься, и приказывал слугам сопровождать его с лопатами, говоря: «Вот напьюсь и умру, а вы тотчас заройте меня». Имена Ли Бо и Лю Лина столь прочно ассоциировались у китайцев с вином, что они встречаются и на других надписях, списанных В. М. Алексеевым.
С неподдельным энтузиазмом бросился молодой синолог скупать дешевые бумажные иконы, печатавшиеся с досок, и красочные новогодние картинки. Маленькие лавочки, торгующие ими, не так-то легко было разыскать – об этом не раз можно прочитать в дневнике путешествия 1907 г. Дело еще и в том, что лубочными картинами торговали в определенное время. В отчете о путешествии В. М. Алексеева в Южный Китай летом 1912 г. есть такая фраза: «Как трудно покупать лубки, которыми торгуют в праздник Нового года, 5-ю и 8-ю луны». Лубочные картины называются по-китайски няньхуа , что буквально значит «новогодние рисунки». Их полагалось вешать к Новому году, который китайцы и по сей день справляют по лунному календарю, чтобы украсить жилище, при помощи их отвратить беду и нечистую силу или призвать в дом, например, бога богатства. Дело было даже не только в изображенных персонажах, но и в красках. Изображения, например, повелителя бесов Пха-ра раскрашивались киноварью, а, по поверьям китайцев, нечисть боится киновари и не осмелится войти в дом, где висит такой лубок. (Раскрашенные простыми красками ценились много ниже.) 5-й и 8-й месяцы упомянуты тоже не случайно: 5-го числа 5-й луны в Китае справлялся праздник Начала лета, а 15-го числа 8-й луны – Середины осени, в эти дни также продавали лубки.
Но мало было купить лубки, надо было проникнуть в их смысл, в скрытую символику. Например, догадаться, что изображение весело бегущих мальчиков, у которых одна нога обута в соломенную туфлю, а другая босая, есть пожелание того, чтобы дождь и вёдро были в году поровну.
Нелегко было уговорить китайских учителей, которых он нанимал, чтобы они расшифровывали изображенное на картинах. Один раз выручил случай. Один из учителей Алексеева, знаток древних текстов, который, как и другие образованные в классическом духе китайцы, и слышать не желал о народных картинках, неожиданно принялся за изучение немецкого языка. И ему со всех сторон стали приносить для перевода немецкие тексты. Признаться, что его познаний для перевода недостаточно, ученому было неловко, чем и воспользовался
Алексеев. Он предложил делать переводы с немецкого на китайский в обмен на описание лубков из своей коллекции. Выхода у учителя не было. Ему пришлось собирать неграмотных старух, знатоков народных сюжетов и народной символики, записывать объяснение картины за картиной. Сейчас эти бесценные описания (более тысячи) хранятся в Эрмитаже и Санкт-Петербургском филиале Архива РАН.
Путешествуя по Китаю, В. М. Алексеев обратил также внимание на разделы малой гравюры и каллиграфии – особые поздравительные художественные конверты, небольшие по размерам (примерно в половину современных почтовых), в которых тогда посылали поздравления по случаю удачи на государственных экзаменах, дня рождения, свадьбы, повышения в чине и прочих торжеств. Конверты (Алексеев собрал их 700 шт., причем разных) замечательны своими символическими рисунками и образцами каллиграфии. Собирал он во время путешествия и художественную почтовую бумагу, и эстампы с древних каменных плит. По крайней мере, со времен первой империи Цинь Ши-хуана (правил в 221–210 гг. до н. э.) в Китае было принято ставить мемориальные каменные стелы с высеченными на них государевыми повелениями, сообщениями о торжественных церемониях, о победах, а позже об успешно сданных экзаменах, образовании монастырей и т. д. Высекались на камнях также тексты конфуцианских классиков и буддийских сутр. Тексты наносились и строгим, так называемым уставным почерком синшу , и в подражание древнему витиеватому письму чжуань . Потом, когда было нужно, камень мазали тушью и, наложив бумагу, получали отпечаток – эстамп, в котором белые знаки четко читались на черном фоне. Иногда на камнях помимо текста изображали портреты знаменитых героев, бережно переносили на камень и образцы надписей, сделанных знаменитыми каллиграфами.
Одной из целей экспедиции Э. Шаванна 1907 г. был розыск старинных, главным образом ханьских, плит со сценами из мифологии или быта рубежа н. э. и надписями, имевшими историческое значение. Для этого в экспедицию и был приглашен эстампер Цзун. Натерки с камней относились в Китае не к народному, а скорее к высокому искусству ученых мужей, но и к нему Алексеев питал не меньший интерес. Так, 31 августа 1907 г. Алексеев вместе с Шаванном ходил в построенный еще в 1090 г. своеобразный музей каменных плит – Бэй-линь (Лес стел) в Сиане, в котором собрано более тысячи камней с высеченными еще в IX в. 13 конфуцианскими канонами и образцами надписей знаменитых каллиграфов всех времен. «Договариваюсь о покупке коллекции эстампажей с этих памятников. Это будет вторая по счету коллекция в Европе. Трепещу при мысли обладать ею, взыграла страсть коллекционера!»
Следует напомнить, что в 1906–1909 гг., когда Алексеев составлял свои коллекции, никто в Китае, а тем более за его пределами китайским народным искусством не интересовался, не собирал ни лубков, ни почтовой бумаги, ни художественных конвертов, да еще со стремлением дать по возможности научное описание или расшифровку символики экспонатов. Только в 1930-х гг. основоположник современной китайской литературы Лу Синь (1881–1936) и его соратник, знаменитый литературовед и искусствовед Чжэн Чжэньдо (1898–1958), издали альбом старинной почтовой бумаги. Лишь в конце 1950-х гг. искусствовед Ван Шуцунь (1923–2009) стал публиковать свою коллекцию лубков, которая насчитывает несколько тысяч картин. Ему же принадлежит и лучший альбом китайского лубка, изданный в 1959 г. Здесь же уместно вспомнить, что когда знаменитый китайский художник Сюй Бэйхун, известный в Европе под французским псевдонимом Ju Peon (1895–1953), был в 1934 г. в Ленинграде и увидел алексеевскую коллекцию лубков, то подтвердил, что такой коллекции нет в Китае, и собрать подобную уже едва ли возможно. Старинные поздравительные художественные конверты до сих пор остаются неведомой искусствоведам областью «малого» китайского искусства, и надо было видеть, с каким изумлением и восхищением разглядывали коллекцию Алексеева в Эрмитаже приехавшие в конце 1984 г. китайские ученые, торопясь сделать краткие записи, чтобы рассказывать о ней китайским издателям и вдохновить их на возможность совместных изданий этих собраний.
Василий Михайлович Алексеев не только собирал произведения народного искусства, он записывал и образцы устного народного творчества. Впоследствии в одной из своих работ он процитирует текст, записанный в 1908 г. в Пекине «со слов слепца, жившего у его ворот». Он делал записи и от няньки-китаянки, жившей в доме француза Барбье, у которого он часто бывал, и от своего китайского учителя Чжан Бинханя и многих других людей, имен которых мы не знаем. Он собирал детские песенки, колыбельные и считалки, пословицы и поговорки, образные выкрики – своеобразную рекламу уличных торговцев, вроде: «Вишни, вишни, более крупные, чем глаза тигра». Бьющая ключом жизнь китайской улицы, понять которую мог только знаток языка и обычаев, привлекала к себе внимание Алексеева, человека демократического склада.
Через много лет после своего путешествия в Китай В. М. Алексеев напишет о том, с каким презрением относились к простонародной китайской жизни, к искусству и устному творчеству народных масс европейские синологи, которые «всегда изучали главным образом то, что изучали сами китайцы: историю, литературу, искусства, географию и подсобные отрасли знаний. Подражая китайцам и в согласовании с обычной Европе идеологией, они жизнь китайского массива представляли в виде лишь как бы существующей при блестящей эспланаде верхов культуры, роняющей в низы свои крохи, и эти крохи должны жить убогою жизнью, глядя на которую можно лишь пожать плечами». Этот интерес к фольклору (в самом широком смысле слова) Алексеев пронес через всю свою жизнь, причем он сочетался с умением говорить с простыми китайцами на близкие им темы, с уважительным отношением к самым бедным из них, что воспринималось тогда в Китае с неподдельным изумлением. В дневнике Алексеев воспроизводит беседу с простыми лодочниками на Великом канале, которые сосредоточенно его слушают, затем подымаются и говорят: «Удивительное дело! Иностранцы, которых мы видали, то тебя толкнут, то ударят, то всячески обидят, а вот разговариваешь же ты, сяньшэн , с нами по-человечески! Можно значит».
Алексеев уже тогда во время путешествия много размышлял о восприятии Китая и вообще Востока в Европе. Он всю жизнь боролся против «восточной экзотики», против популярных в то время писаний иных беллетристов о Китае, вроде «Сада пыток» О. Мирбо или «Курильщиков опиума» К. Фара, восторженно воспринимавшихся обывателями, не имевшими ни малейшего представления о подлинном Востоке. Пафос разоблачения «восточной экзотики» Алексеев пронес через всю свою жизнь. Он неутомимо выступал с лекциями на эту тему в самых разных аудиториях. Весной 1936 г., прочитав в одном из ленинградских журналов экзотический «китайский» рассказ, Алексеев обратился с гневным письмом к Горькому, предлагая всерьез привлечь к товарищескому суду всю почтенную редколлегию журнала. (Горький ответил шутливым отказом, написав одновременно и членам редколлегии, что «рассказец они напечатали дрянной, шваброй написан».)
Алексеев и Шаванн в силу различия своих интересов хорошо дополняли друг друга во время путешествия по Китаю. Во многом их интересы совпали, но где-то, как говорят сейчас, на глубинном уровне они были весьма различны. Казалось бы, они ехали вместе на тряской китайской телеге без рессор по убийственным дорогам или шли рядом, подымаясь на священную гору Тайшань, оба делали записи, но фиксировали разное: Шаванн больше официальное, Алексеев – простонародное. Вот характерный пример. Вернувшись из Китая, Шаванн написал толстенную книгу о горе Тайшань («Le Tái chan») и издал ее в Париже в 1910 г. Книга имеет подзаголовок «Монографическое описание китайского культа». Но вот мы открываем дневник В. М. Алексеева и читаем о том, что преобладающее число храмов на этой горе посвящено культу чадоподательницы Сун-цзы няннян, которую народная фантазия соединила с образом жены легендарного правителя XII в. до н. э. Вэнь-вана, будто бы имевшего сто сыновей. В архиве Алексеева сохранилась и фотография, сделанная в одном из храмов, на которой изображены Сун-цзы няннян и ее царственный супруг, а перед ними длинный жертвенный столик, заставленный и заваленный глиняными фигурками мальчиков-младенцев, которые уносят с собой женщины, приходившие в храм испрашивать детей, а после рождения своего ребенка возвращают в тройном или даже удесятеренном количестве. Обратимся теперь к труду французского синолога. В нем нет этих интересных сведений, имя Сун-цзы няннян у Шаванна упоминается лишь походя, среди богинь, входивших в свиту повелительницы горы Тайшань Бися-юаньцзюнь (Богини Лазоревой зари). Сведений об этом культе, приведенных Алексеевым, мы не найдем и в китайских или японских работах по народной религии. Они уникальны в полном смысле этого слова.
Во время путешествий молодой ученый много размышляет об особенностях китайской культуры в самом широком смысле этого слова, о характере народа, его истории, о конфуци- анстве, буддизме, даосизме, мусульманстве и христианстве в Китае, о китайском языке и письменности, о будущей судьбе страны и народа. В его дневнике много мыслей, которые он развивал потом всю жизнь, много впечатлений, которые синолог пронес через долгие годы жизни, много заделов для целого ряда осуществленных им и незавершенных работ исследователя. Конфуцианские тексты Алексеев читал с китайскими учителями в 1906–1909 гг., а к началу 1920-х гг. выработал свой принцип перевода «Суждений и бесед» великого мудреца. Суть подхода – в соединении литературного перевода древнего философского текста с переводом комментариев Чжу Си (XII в.) и собственными примечаниями. Такой трехслойный текст дает читателю возможность глубже осмысливать древний памятник и при этом понять, в чем особенность средневекового восприятия произведения и как можно проникнуть в его смысл, исходя из современных европейских представлений.
В своем дневнике В. М. Алексеев размышляет о «Записках необыкновенного, сделанных Ляо Чжаем» («Рассказы Ляо Чжая о необычайном»), об их исключительной утонченности и удивительной фабуле – «причудливом смешении мира действительности с миром фантастики». Речь идет о собрании новелл знаменитого писателя XVII–XVIII вв. Пу Сунлина, широко известных теперь и европейскому читателю. Некоторые из них использовались и петербургскими профессорами в качестве учебных текстов при преподавании китайского языка. Но никто не рассматривал их с художественной точки зрения. Не было тогда вообще художественных переводов китайской литературы на русский язык. Сделать все это суждено было В. М. Алексееву. Ему принадлежат блестящие и художественно адекватные переводы 154 новелл Пу Сунлина (с этих переводов были сделаны переводы некоторых новелл на белорусский, эстонский, украинский, киргизский и таджикский языки), неоднократно издававшиеся отдельными сборниками. Василию Михайловичу Алексееву принадлежат и точные и вместе с тем высокохудожественные переводы китайской классической поэзии, причем труднейших ее образцов, вроде стихов в прозе поэта Ли Бо и удивительных по своей художественной выразительности шедевров китайской эссеистики гувэнь , сделанных ритмической прозой и тонко передающих многие особенности оригинала.
Как отмечал в дневнике путешествия 1907 г. сам Алексеев, он мечтал сперва написать диссертацию о магических оберегах-амулетах, потом о китайской народной картинке, но в результате представил в 1916 г. в ученый совет факультета восточных языков Петербургского университета огромное исследование под названием «Китайская поэма о поэте. Стансы Сыкун Ту (837–908), перевод и исследование», где 24 станса по 12 строк в каждом были изучены с такой тщательностью, что для этого понадобилось около тысячи страниц печатного текста. Прошло около полувека, прежде чем стансы привлекли к себе внимание китайских ученых, взявшихся за толкование этих сложных стихов. И странно было читать в выпущенной в 1960-е гг. в Гонконге на английском языке небольшой книге о Сыкун Ту, будто это первое исследование о нем на европейском языке. Блестящая и в методическом, и в филологическом отношении диссертация Алексеева выросла из его раздумий важности проникновения в самую суть туземного восприятия, об умении не просто прочитать сложный иероглифический текст, но и увидеть его сперва глазами культурного китайца, а потом уже адекватно переложить его на свой язык, найти точные слова для его толкования и определения места в истории культуры. «Я хочу быть китаистом-культуроведом по принципу наибольшего и наилучшего охвата китайской культуры. Всей своей будущей деятельностью я хочу всячески расширять русло, соединяющее культуру Китая с нашей культурой, показать и пропагандировать огромный и прекрасный незнакомый нам мир», – записал Алексеев в дневнике 12 октября 1907 г.
В. М. Алексеев делал записи в своем дневнике более ста лет тому назад. И как это ни удивительно на первый взгляд, читая и перечитывая его сейчас, не ощущаешь, что все описанное целиком принадлежит далекой истории. Конечно, Китай уже совсем не тот. Не зря ученый чувствовал приближение будущих перемен. Через пять лет после той первой поездки Алексеева произошла Синьхайская революция. В 1949 г. была создана Китайская Народная Республика. Жизнь страны изменилась коренным образом, но многие черты ее традиционной культуры, описанные в ходе путешествий, живут и поныне. Все также выступают в городах народные сказители-шошуды, пересказывая и новеллы Ляо Чжая, и сюжеты средневековых эпопей «Троецарствие», «Речные заводи», «Путешествие на Запад»; искусство это пережило потрясения «культурной революции» и возрождается к новой жизни. В 1981 г. я сидел в простенькой пристройке при старинной барабанной башне в Пекине, вместе с сотней китайцев разных возрастов пил терпкий зеленый чай, как и некогда Алексеев, и слушал истории о героях трех царств, которые рассказывала Лянь Лижу – дочь умершего уже знаменитого сказателя Лянь Кожу, учившегося мастерству в 1920-х гг. у рассказчиков, которых, возможно, слушал в бытность в Пекине В. М. Алексеев. Новое здесь, однако, в том, что сказители выступают и по радио, что впервые стали записывать их повествования и издавать массовыми тиражами. Так были еще в 1950-х гг. изданы отдельными книжечками пересказы 12 новелл Ляо Чжая из репертуара тяньцзиньского сказителя Чэнь Шихэ.
Все так же, как и во времена Алексеева, в Китае печатают с досок традиционные народные картинки и раскрашивают их затем от руки. Будучи в 1981 г. в Тяньцзине, я попросил разрешения посетить местечко Янлюцин (Ивовая зелень), куда заезжали Алексеев с Шаван-ном, и где молодой русский синолог скупал образцы лубков. Мы сели в машину, но остановились буквально через несколько минут. Оказалось, что Янлюцин «переехал» в город. Конечно, не само местечко, отстоящее от Тяньцзиня километров на 30, а мастерские, где печатают лубки со старых, чудом сохранившихся во время бурного «десятилетия бедствий» досок, и продают их не только в Китае, но и вывозят в страны Юго-Восточной Азии, где живет много китайцев. Я приехал в мастерскую с книгой В. М. Алексеева «Китайская народная картина» в руках. Она вышла у нас в 1966 г., когда в самом Китае хунвэйбины громили старую традиционную культуру, когда рубили и сжигали доски с нанесенными на них гравюрами. Естественно, что никто в Янлюцине о такой книге и не подозревал. Директор, главный художник, заведующий исследовательским отделом (теперь есть и такой!) сгрудились вокруг стола и с неподдельным интересом рассматривали иллюстрации в книге. «Наша янлюцин-ская! Только доски уже пропали!», или «Доски нашли у кого-то из крестьян», или «А это лубок из уезда Вэйсянь в Шаньдуне, там теперь тоже восстановили печатню». Печатен восстановлено много, и все они изготовляют традиционную продукцию, так как усиленные попытки 1950-х – начала 1960-х гг. насадить новые темы в традиционном народном искусстве (будь то творчество шошуды или лубок) не дали практически никаких шедевров, а породили целую серию неуклюжих агиток и малохудожественных поделок.
В своем дневнике Алексеев описывает посещение многочисленных памятников китайской древности. Вот запись от 8 июня, о посещении Горы тысячи будд – Цяньфошань в Цзинани, о каллиграфических надписях, которыми украшены арки и стены строений, о гротах, выдолбленных в скале, в которых стоят статуи будд. Мне довелось побывать на этой горе дважды: в 1966 г. в самые первые недели «культурной революции» и в 1981 г., уже после завершения этого трагического десятилетия. В 1966 г. мы бродили по тропинкам от грота к гроту, любовались статуями будд, созданными еще в танскую эпоху, и недоумевали, почему время от времени перед некоторыми пещерами вдруг торчали дощечки: «Вход (или проход) иностранцам воспрещен». В 1981 г. уже нельзя было увидеть тысячелетней давности статуи, их все разбили хунвэйбины. Вместо них стояли современные копии, более грубые (хотя китайцы вообще умеют удивительно искусно подделывать древние памятники и реставрировать их) и раскрашенные современными химическими красками. А вот надписи знаменитых каллиграфов уцелели. Я поинтересовался, как их удалось сберечь, и мне с гордостью рассказали, что, узнав о грозящей беде, работники горы-музея за одну ночь замазали надписи глиной и написали поверх изречения «великого кормчего», так что явившиеся на следующий день «юные бунтари» не осмелились к ним притронуться. Через десять с лишним лет глину осторожно отбили, и перед восхищенными взорами экскурсантов вновь засияли образцы каллиграфического искусства древних мастеров. Поскольку гора когда-то называлась Лишань и на склонах ее будто бы пахал землю мифический правитель Шунь, то теперь на горе построен небольшой павильон со статуей Шуня и двух его жен – такого не было во времена В. М. Алексеева.
Автору этих строк довелось побывать в 1966 г. и в Цюйфу, на родине Конфуция. Я бродил по городу с дневником Алексеева в руках и пытался понять, что же изменилось за прошедшие почти 60 лет. В огромном поместье семьи Кун была устроена гостиница, но жили в ней несколько учителей и промышленник-китаец, приехавший откуда-то из Южной Африки. Он не говорил по-китайски (во всяком случае, по-пекински), но знал некоторые иероглифы и чертил на бумажке знак «телега», давая понять, что ему нужна машина. Молодой парень, смотритель огромного родового кладбища семьи Кун, водил нас к могиле, все было именно так, как описал Алексеев. Только в западном приделе храма Конфуция появился небольшой музей каменных ханьских рельефов. Когда-то там было их всего семь, а после 1949 г. в окрестностях Цюйфу собрали еще больше сотни. Молодой директор этого музея показывал мне каменные плиты с изображениями мифических персонажей и сценами двухтысячелетней давности и был несказанно удивлен, когда я в ответ объяснил ему, что многие из этих только сейчас найденных камней видели Алексеев с Шаванном и что Шаванн воспроизвел их в своем труде «Mission archéologique dans la Chine septentrionale», изданном в Париже в нескольких томах в 1913–1915 гг. Он никогда не слышал имени французского синолога, как, впрочем, и других европейских китаеведов, – таково было время, хотя дополнения к историческим трудам Шаванна издавались в Китае и в 1950-х гг.
Эдуард Шаванн, как свидетельствует Алексеев, мечтал об организации музеев в Китае. В настоящее время музеи созданы во всех крупных городах Китая, более 180 архитектурных шедевров взяты под охрану государства как памятники общенационального значения, а в 1981 г. в Шанхае издан первый «Словарь достопримечательностей Китая», в котором описано 4 400 памятных мест и ценных архитектурных сооружений разных веков, часть которых запечатлел в начале века Алексеев в своем дневнике.
«Путешествие – это книга», – записал он в своих тетрадях. Дневник путешествия 1907 г. был подготовлен для первого издания вдовой академика Н. М. Алексеевой и его дочерью М. В. Баньковской (сам Алексеев начал приводить его в порядок еще до революции, но потом бросил, считая, что надо подождать издания дневника Шаванна) [Алексеев, 1958]. Путешествуя по Китаю, Алексеев кроме русского дневника писал и китайский, который почему-то передал потом в Музей истории религии. Готовя к изданию дневник 1907 г., вдова и дочь Василия Михайловича с помощью его учеников-китаистов дополнили русский текст некоторыми сведениями из китайского дневника (который сейчас, к большому сожалению, сотрудники музея найти не могут). Вместе с тем при подготовке первого издания были сокращены некоторые подробности, например о не всегда гладких отношениях столь разных по характеру людей, как Алексеев и Шаванн.
Дневник путешествия 1907 г., опубликованный в 1958 г., сразу привлек к себе внимание: шесть журналов в нашей стране поместили восторженные рецензии на эту книгу, откликнулись рецензиями и западные востоковеды: синолог Э. Гапардоне, японовед С. Елисеев и монголист Н. Поппе. А много позже в Италии появилась небольшая статья Анны Буятти об этой книге и работах Алексеева по китайским народным картинам. За русским изданием последовали и переводы – в первую очередь на немецкий, который блестяще выполнил профессор С. Берзинг, окончивший в свое время классическую гимназию в Петербурге. Затем появился китайский перевод, тщательно выполненный тяньцзиньским проф. Янь Годуном, позже и итальянский, созданный Анной Буятти. Не исключено, что появится болгарский и, наконец, английский переводы. Немецкий перевод с прекрасными иллюстрациями, сделанными с привезенных Алексеевым из Китая стеклянных пластинок-негативов, сразу вызвал большой интерес, четыре немецкие газеты опубликовали подробные рецензии, а в Вене в австрийской газете «Die Presse» появилась большая статья профессора Г. Каминского с подзаголовком «В Китай с дневником путешествия Алексеева» – свидетельство того, что книга совсем не устарела. Через много лет два работавших в Шанхае немецких китаиста, вдохновившись дневником Алексеева, совершили путешествие по следам русского синолога и написали книгу, которая вышла и на немецком, и на китайском.
Китайский перевод дневника привлек к себе внимание известного писателя Фэн Цзицая, который в последние годы возглавляет огромный проект по собиранию и спасению народного искусства. Фэн Цзицай откликнулся на него статьей в тяньцзиньской вечерней газете, а потом, побывав в нашей стране, в книге «Подслушанная Россия» посвятил ему отдельную главу «Очарованный китайскими народными картинами Алексеев». Из всего этого видно, что дневник путешествия 1907 г., наполненный раздумьями о китайской культуре, ее особенностях и судьбе, интересен и сейчас по прошествии более ста лет.
Во время путешествия оба китаеведа думали о том, чтобы совершить аналогичное и по Южному Китаю и даже планировали сделать это на следующий год. Но их план не осущест- вился. Поэтому в 1909 г. Алексеев, преподававший с 1908 г. русский язык взрослым китайцам в организованной еще в 1899 г. в Пекине школе русского языка КВЖД, что было совсем непросто, решил во время новогодних каникул сам поехать на 20 дней на юг, то есть в Шанхай, Сучжоу, Ханчжоу, Учан. Алексеева в первую очередь по-прежнему интересовала этнография, культы известных божеств и, конечно, народные картины, которых он немало купил в Сучжоу, знаменитом центре их печатания. Впрочем, как оказалось, многие купленные картины были напечатаны не в Сучжоу, а в Шанхае, с которым у сучжоуских печатен были тесные связи. Это второе небольшое путешествие описано в одной из лекций, прочитанных ученым в Географическом обществе в 1940 г. По этому поводу М. В. Баньковская писала в 2004 г. в письме к автору о том, что «мучилась поиском наиболее подходящей формы для материала о южных путешествиях: уж больно он контрастирует со “Старым Китаем”. Страдая от непреходящего состояния буридановой ослицы, в конце концов, я нашла, как мне кажется, более или менее подходящую форму компиляции и обработала в этом ключе материалы путешествия 1909 года. За основу взяты конспекты лекций ВМ в Географическом Обществе (эта часть приводится в несколько сокращенном и переработанном виде), и в него введены те выписки из путевого дневника, которые мне показались наиболее интересными и отвечающими общему стилю книги».
В. М. Алексеев осуществил путешествие на Юг Китая в 1912 г. Это была уже совсем другая поездка – с иными целями, короткая по времени, совершенная повзрослевшим человеком в переменившийся Китай. Это научная командировка была организована Комитетом по изучению Средней и Восточной Азии и Музеем антропологии и этнографии в районы южноприморского Китая: Шанхай, Сямэнь, Шаньтоу, Фучжоу, Гуанчжоу. Алексеев первым из русских китаеведов посетил и остров Путошань, центр поклонения самой популярной в Китае буддийской богине милосердия Гуаньинь. Это была командировка с фотокамерой и средствами для покупки вещей для Музея этнографии. Известно, что Алексеев привез для музея немногим более тысячи экспонатов, которые, к сожалению, до сих пор научно не описаны, хотя некоторые из них, например фуцзяньские и фошаньские (из Гуандуна), опубликованы в Китае. К этому времени произошла Синьхайская революция, была свергнута маньчжурская династия Цин и установлено республиканское правление. Это был во многом уже другой Китай, но Алексеев видел в основном внешние приметы нового, в частности срезание кос, которые все китайцы должны были носить в знак покорности маньчжурам. Сам В. М. Алексеев уже не магистрант, а читающий университетские курсы приват-доцент, на его рабочем столе в Петербурге оставлена в самом развороте темы диссертация о поэтоло-гии танского Сыкун Ту, не забыты и былые увлечения народной культурой.
По этим и иным причинам записи 1912 г. существенно отличаются от дневника 1907 г. Они суше, лапидарнее; почти исчезает столь привлекавшая в тех, «молодых», записях художественность, но сохраняется острота зрения и ума, то главное, что без всякой натяжки позволяет поставить дневниковую прозу В. М. Алексеева в ряд с лучшими книгами о путешествиях в русской литературе XIX – начала XX столетия.