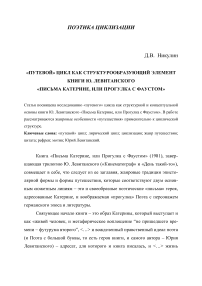«Путевой» цикл как структурообразующий элемент книги Ю. Левитанского «Письма Катерине, или прогулка с Фаустом»
Автор: Никулин Дмитрий Владимирович
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Статьи и сообщения. Поэтика циклизации
Статья в выпуске: 4 (11), 2009 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена исследованию «путевого» цикла как структурной и концептуальной основы книги Ю. Левитанского «Письма Катерине, или Прогулка с Фаустом». В работе рассматриваются жанровые особенности «путешествия» применительно к циклической структуре.
"путевой" цикл, лирический цикл, циклизация, жанр путешествия, цитата, рефрен, мотив, юрий левитанский
Короткий адрес: https://sciup.org/14914200
IDR: 14914200
Текст научной статьи «Путевой» цикл как структурообразующий элемент книги Ю. Левитанского «Письма Катерине, или прогулка с Фаустом»
Книга «Письма Катерине, или Прогулка с Фаустом» (1981), завершающая трилогию Ю. Левитанского («Кинематограф» и «День такой-то»), совмещает в себе, что следует из ее заглавия, жанровые традиции эпистолярной формы и формы путешествия, которые соответствуют двум основным сюжетным линиям – это и своеобразные поэтические «письма» героя, адресованные Катерине, и воображаемая «прогулка» Поэта с персонажем германского эпоса и литературы.
Связующее начало книги – это образ Катерины, который выступает и как «живой человек, и метафорическое воплощение “не пришедшего времени – футурума второго”, <…> и вожделенный нравственный идеал поэта (и Поэта с большой буквы, то есть героя книги, и самого автора – Юрия Левитанского) – адресат, для которого и книга писалась, и <…> жизнь прожита и оттого не лишена смысла»1. Поэтому «Прогулка с Фаустом…» представляет собой поэтическое завещание будущим поколениям.
На первый план книги выходит судьба самого автора, переплетенная с сюжетом о средневековом алхимике2, с которым Поэт отправляется в путешествие во времени и пространстве с целью «понять грядущее»3 и встретить в отдаленном будущем Катерину.
Стихотворения, развивающие эту линию, удалены друг от друга и проходят через всю книгу, обнаруживая тенденцию к циклизации и образуя, таким образом, «путевой» цикл.
На сегодняшний день литературоведение не выработало исчерпывающих и единых критериев лирического цикла. Относительное единство мнений исследователей сводится к тому, что лирический цикл следует рассматривать как самостоятельное специфическое жанровое образование4 или жанровую потенцию5.
Наиболее подробно черты цикла изучены в работе Л.Е. Ляпиной6:
-
1) авторская заданность композиции;
-
2) самостоятельность входящих в лирический цикл стихотворений;
-
3) «одноцентренность», центростремительность композиции лирического цикла;
-
4) лирический характер сцепления стихотворений в лирическом цикле;
-
5) лирический принцип изображения, обладающий рядом характерных черт, присущих «путешествию» как жанру.
К вышеперечисленным следует дополнить типологические и жанрообразующие признаки лирического цикла, определяемые В.А. Сапоговым7:
-
1) установка на целостность;
-
2) относительная «открытость – закрытость» цикла.
Таким образом, под лирическим циклом в нашей статье мы будем понимать «сверхжанровое единство»8, связанное концептуально и характеризующееся вышеуказанными признаками.
Рассматриваемый цикл обладает рядом характерных черт, присущих «путешествию» как жанру. Наиболее полное определение этого жанра, как отмечают отечественные исследователи (Н. Маслова, В. Михайлов), дается В. Гуминским: «Путешествие – жанр, в основе которого лежит описание путешественником (очевидцем) достоверных сведений о каких-либо, в первую очередь, незнакомых читателю или малоизвестных странах, землях, народах в форме заметок, записок, дневников, журналов, очерков, мемуаров. Помимо собственно познавательных, путешествие может ставить дополнительные – эстетические, политические, публицистические, философские и другие задачи; особый вид литературных путешествий – повествования о вымышленных, воображаемых странствиях <…> с доминирующим идейно-художественным элементом, в той или иной степени следующие описательным принципам построения документального путешест-вия»9. Именно таким «особым видом» и является «прогулка» Поэта и Фауста. В работе В.А. Шачковой «“Путешествие” как жанр художественной литературы: вопросы теории»10 выделяются характерные черты рассматриваемого жанра, большая часть которых присуща и книге «Письма Катерине…», и «путевому» циклу в частности:
-
- «принцип жанровой свободы», «идея свободы» (В.М. Гуминский)11, которая состоит в том, что автор не связан какими-либо жанровыми канонами, условностями и свободно обращается и комбинирует различные объекты. Так, Левитанский совмещает вымышленное путешествие Поэта и Фауста с реальными событиями своей жизни;
-
- образ Поэта, путешественника, носителя определенного мировоззрения в книге является структурообразующим;
-
- в «Письмах Катерине…» в некоторой степени присутствуют и документальные элементы, связывающие книгу с реальной действительностью. Это, прежде всего, цитирование работ о средневековом алхимике «Исторические и легендарные свидетельства о докторе Фаусте», «Народная книга» («История о докторе Иоганне Фаусте, знаменитом чародее и чернокнижнике» И. Шписа). Левитанский обращается также и к некоторым датам и возрастным указаниям (22 июня 81-го года, 2001 год, возраст Катерины); к географическим объектам и адресам (Лейпциг, Тракай, Виттенберг, Рейн, Киев, Будапешт); к бытовым реалиям (пишущая машинка «Рейнметалл» («22 июня 81-го года»)); вводит в повествование реально существующих людей (Катерина, Анна, Ольга – дочери поэта). Таким образом, в художественном вымысле, которым является воображаемая «прогулка» с Фаустом, присутствует и некая доля достоверности;
-
- путешествие – жанр синтетический, способный совмещать в себе разнородные элементы. Левитанский объединил под одной обложкой и прозо-поэтические фрагменты «Строки из записной книжки», и драматические эпизоды («Сцена в погребке», «Сцена у озера»), и лирические стихотворения, выполняющие роль своеобразных «писем Катерине», в некоторых из которых проявляются драматургические черты. При этом они не обособлены, а проникают и дополняют друг друга. Таким образом, по мнению Е.А. Стеценко, «происходит формирование целостной картины бытия из разрозненных деталей, <…> личность <…> находится в процессе самопознания»12;
-
- одной из черт путешествия как жанра является его познавательная функция. Замысел книги «Прогулка с Фаустом…», представленной в виде дорожных писем, состоит в том, чтобы раскрыть мировоззрение Поэта, передать жизненный опыт Катерине, которая является «продолжением его <курсив мой – Д.Н. > Судьбы»13.
Таким образом, определяя жанровую форму книги «Письма Катерине, или Прогулка с Фаустом» как путешествие, мы рассматриваем ее как жанр именно художественной литературы, отличный от публицистики (Н.М. Маслова14).
Одним из жанровых признаков путешествия, как сказано выше, является «идея свободы», и разнородные элементы книги хаотично взаимодействуют друг с другом, но при этом они объединяются единым «маршрутом» (термин Н.М. Масловой)15. Таким образом, линия Фауста и Поэта следует традиции лирических циклов путешествий, т.к. в основе его композиционного строя лежит событийно-временной стержень16. Вокруг данной монтажной конструкции и формируется сюжетно-композиционная основа книги. Ее заглавие готовит читателя к тому, что в перспективе его ждет не длительное путешествие, а легкая и непродолжительная «прогулка»: озеро у литовского города Тракай, погребок в Лейпциге, город Виттенберг, «три пространства» и снова озеро у Тракая.
Стихотворение «Приглашенье к прологу» вводит в книгу мотив путешествия. Подобно Фаусту лирический герой получает возможность заново пройти жизненный путь: «…И, под вечер из дому выйдя, / пустился я тихо в дорогу, / и странный попутчик мой шел со мной рядом / и чуть впереди» (307). В роли «попутчика» выступает Фауст, совмещающий в себе и черты Мефистофеля. Доктор шагает «впереди – в силу большего и горшего опыта поиска Истины. Рядом – на правах единомышленника»17.
Стихотворение «Остановилось время. Шли часы…», развивая мотив путешествия, описывает ту условную пространственно-временную границу, преодолевая которую, герой произносит крылатую фразу из трагедии И. Гете «Фауст» «Остановись, мгновенье, ты прекрасно!»: «Остановилось время. Шли часы, / а между тем остановилось время, / и было странно слышать в это время, / как где-то еще тикают часы» (309). Это своеобраз- ное заклинание позволяет ему повернуть время вспять и обрести вторую молодость (см. «Сцена в погребке»):
Фауст Левитанского, подобно Мефистофелю Гете, подвергает героя испытанию любовью: «К тому же все влюбленные, mein Freund, / каким-то высшем зреньем обладая, / умеют жить, часов не наблюдая. / А вы, mein Herz, видать, не влюблены?! // И что-то в этот миг произошло. / Тот старый плут, он знал, куда он метил. / И год прошел – / а я и не заметил. / И пробил час – / а я не услыхал» (310). Реминисценция крылатой фразы из комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума» (1824) (д. 1, явл. 3 «Счастливые часов не наблюдают»18) вводит в книгу любовную тематику, которая связывает рассматриваемое стихотворение со следующим – «Шла дорога к Тра-каю…». Это произведение – вольная интерпретация линии Фауста и Маргариты из трагедии Гете. Левитанский прослеживает динамику отношений между Поэтом и его возлюбленной: «Шла дорога к Тракаю, литовская осень была еще / в самом начале, / и в этом начале / нас озера Тракая своим обручали кольцом, / а высокие кроны лесные венчали» (311). Условность осеннего лирического пейзажа и вся система образов («близился рокот девятого вала и грохот обвала») говорит об ощущении грядущей трагедии. Предвестием беды служит и аллюзия на сцену «У ворот» из трагедии Гете «Фауст», в которой вместо Мефистофеля в облике черного пуделя за героем следует алхимик: «А меж тем кто-то третий все время / неслышно бродил вокруг нас / и таился в траве / над обрывом, / у самого края. / То, наверно, мой Фауст за нами следил / из прибрежных кустов, / ухмыляясь в усы / и ладони хитро потирая» (311).
Следующее стихотворение, «Сцена в погребке» – это драматический эпизод, который относится к «внутренним жанрам» книги19. Название этого фрагмента отсылает к сцене «Погреб Ауэрбаха в Лейпциге» из трагедии Гете. Эпизодическое использование сюжета о докторе Фаусте и Мефистофеле со схожим заглавием можно встретить и у А.С. Пушкина – «Сцена из
Фауста», опубликованная в «Московском вестнике», 1828 г., № 8. Но это совершенно оригинальное, отличное от трагедии Гете произведение, единственное сходство – их драматическая природа.
«Сцена в погребке» Левитанского начинается с ремарки, в которой в перечне действующих лиц, помимо Поэта (главного лирического героя всей книги) и Фауста, встречаются персонажи из одноименных стихотворений книги Левитанского «Кинематограф» – Иронический человек и Квадратный человек, которые заменяют лейпцигских бюргеров – Зибеля, Брандера, Альтмаера, Фроша. Манипуляции Фауста с вином и превращением Квадратного человека в винную бочку говорят о том, что эти эпизоды заимствованы из народной книги о докторе Фаусте20.
Частично повторяя судьбу гетевского героя, Поэт преследует иные цели: «Давайте лучше рейнского глотнем / и двинемся – / дорога будет длинной, / к тому же и свиданье с Катериной / вам не сегодня завтра предстоит» (317). В стихотворении «Славный город Виттенберг…» автор перемещает своих героев в родной город алхимика, на краю которого сохранились развалины замка, именуемого домом Фауста21. С этим местом Поэт связывает свои надежды встретить Катерину: «ты и поздний, ты и ранний / не отверг моих стараний / и надежд не опроверг» (331). В этом фрагменте путешествия Фауст уже более не совмещает в себе функции и проводника, и Мефистофеля (ср. «Шла дорога к Тракаю…»): «Но и дьявол, / старый дьявол, / он ведь тоже не дремал. // Мы, смеясь и веселясь, / наблюдали временами, / как он шествовал за нами, / в тело пуделя вселясь» (332). Вокруг образа алхимика исчезает мистический ореол: «Фауст был отменно мил – / за друзей и за подружек / пиво пил из толстых кружек, / папиросами дымил» (332). Введение исторической личности делает к тому же его фигуру более реалистичной: «Лишь порой он вспоминал, / как его (o meine Mutter!) / здесь когда-то Мартин Лютер / поносил и проклинал» (332).
Единство места действия связывает это стихотворение со стихотворением «Испытание тремя пространствами», которое расположено между текстами «Ожидание Катерины» и «Явление Катерины». Вместе они образуют кульминационную точку в развитии сюжета книги, разделяющую его на две условные части: до и после прихода Катерины.
В стихотворении «Ожидание Катерины» герой в ожидании встречи совершает символический обряд: «…Осенняя роща, природы священный алтарь, / и теплятся свечи» (342). В стихотворении «Испытание тремя пространствами» этот обряд принимает форму испытаний, через которые должен пройти герой. Левитанский заимствует, таким образом, мотивы «Божественной комедии» Данте: «три пространства безымянных» (белое, красное и зеленое) уподобляются аду, чистилищу и раю, а Фауст подобно Вергилию сопровождает героя лишь в первых двух.
Поэт, как и гетевский Фауст, стоит у порога завершения своей «второй» жизни, и чтобы достигнуть намеченной цели, ему предстоит пройти последнее «испытание»: «…И вот, когда моя заблудшая звезда / достигла самого, казалось бы, зенита, / и я подумал с облегчением – / finita, / то бишь, окончена комедия моя…» (342). «Очищенье» «плоти и души» позволит герою достичь желаемого им «футурума первого и второго», и сказанные Левитанским в интервью слова подтверждают это: «Больше всего мне хотелось бы жить будущим и в будущем <…> Как представить, понять, что будет через сто пятьдесят лет? А через триста? <…> А меня это – видит Бог – всегда очень занимало. И занимает, может быть, больше, чем многое сегодняшнее»22.
Цвета условных «пространств», пересекаемых героем, отсылают к ранее прозвучавшему в книге стихотворению «Рисунок»: «и все наши годы – лишь мягкие переходы / между зеленым и красным, / перемены погоды между апрелем и сентябрем» (318). Таким образом, герой, переходя из красного в зеленое пространство, совершает как бы обряд повторного омоложения.
Строки, звучащие в стихотворении рефреном (чему не д о лжно быть, / того и быть не может, / а то, что быть должн о , / того не миновать…), играют роль своеобразного заклинания, при помощи которого герой переходит из одного пространства в другое; и связывают части стихотворения.
После прохождения трех пространств перед героем возникает образ Катерины («Явление Катерины»), который он наделяет «божественным женским задумчивым ликом», что отсылает к сквозному образу творчества В. Соловьева – Вечной Женственности (например, «Das Ewig-Weibliche», 1898 г.).
Заключительным эпизодом в путешествии Фауста и Поэта является стихотворение «Сцена у Озера». Герои возвращаются в то место, откуда началось их путешествие – озеро Тракай (ср. «Шла дорога к Тракаю…»). Надежда Поэта встретить Катерину оправдывается лишь частично. Невзирая на помощь алхимика, герои остаются разделенными во времени и пространстве:
Поэт
Я к ней пойду!
Хотя бы на мгновенье!
Я только ее волосы поправлю, слезинку набежавшую утру!..
Несмотря на запрещающие знаки, которые подает ему Фауст, бросается к Катерине. Виденье тотчас исчезает. По щекам Поэта текут слезы. (386)
Заключительная реплика Фауста подтверждает неотвратимость судьбы: «Увы, нам только кажется порой, / что мы свой жребий сами выбираем. / А мы всего лишь слезы утираем, / чужие ли, свои – не все ль равно!» (386).
Выбрав для финального эпизода в путешествии Фауста и Поэта форму «внутреннего жанра» – «Сцена», Левитанский устанавливает диалог между лирическим героем, близким автору, и другими персонажами, носителями определенного мировоззрения.
Как своеобразное послесловие к сюжетной линии о Фаусте и Поэте выступает стихотворение «Я дьяволу души не продавал…», в котором Ле-витанский комментирует эту сюжетную линию: «Я дьяволу души не продавал – / хоть с Фаустом сошлась моя дорога, / но он с меня не спрашивал залога, / моей души не требовал взамен. // <…> И я, идя за Фаустом вослед, / в нем чувствуя надежную опору, / скорее сам был Фаустом в ту пору, / а он был Мефистофелем моим» (392).
Таким образом, лирический герой совмещает в себе некоторые черты «фаустовского человека», являющегося «символом дерзаний человеческого разума и олицетворением сомнений в необходимости этих дерзаний»23. Но и самого Фауста Левитанский делает, как было сказано выше, «единомышленником» лирического героя. Он «не чернокнижник, не алхимик, не выдумка Гете или Пушкина, но поэт , тип художника, родственный самому автору»24, поэтому в «Сцене у озера» и звучат следующие слова: «Да вы поэт, мой Фауст, видит бог!» (383).
Сюжетно-композиционная основа рассмотренного цикла строится вокруг мотива путешествия. Текстовое единство скрепляется единством субъектных отношений, наличием своеобразного сюжета и цитатным диалогом с произведениями мировой классической литературы. «Путевой» цикл выполняет структурообразующую, концептуальную роль в книге.
-
1 Поздняев М . «Рядом и чуть впереди…»: штрихи к портрету Юрия Левитанского // Литературная газета. 1983. № 50. 14 декабря. С. 6.
-
2 Поздняев М. «А дальше будет фабула иная…» // Знамя. 1988. № 5. С. 214.
-
3 Поздняев М. «Рядом и чуть впереди…»: штрихи к портрету Юрия Левитанского. С. 6.
-
4 См. подробнее: Дарвин М.Н. Проблема цикла в изучении лирики: учеб. пособие. Кемерово, 1983; Долгополов Л.К. На рубеже веков: о рус. лит. конца XIX–нач. XX в. Л., 1985; Ляпина Л.Е. Циклизация в русской литературе XIX века. СПб., 1999; Мирошникова О.В. Итоговая книга в поэзии последней трети ХIХ века: архитектоника и жанровая динамика: монография. Омск, 2004; Сапогов В.А. Сюжет в лирическом цикле // Сюже-тосложение в русской литературе: сб. статей. Даугавпилс, 1980. С. 90–97; Фигут Р. Лирический цикл как предмет исторического и сравнительного изучения. Проблемы теории // Европейский лирический цикл. Историческое и сравнительное изучение: материалы междунар. науч. конф., Москва – Переделкино, 15–17 нояб. 2001 г. / [сост. М.Н. Дарвин]. М., 2003. С. 11–37; Фоменко И.В. Лирический цикл: становление жанра, поэтика. Тверь, 1992.
-
5 Исупов К. О жанровой природе стихотворного цикла // Целостность художественного произведения и проблемы его анализа в школьном и вузовском изучении литературы: тез. докл. республ. науч. конф. (г. Донецк, 12–14 октября 1977 г.). Донецк, 1977. С. 163– 164.
-
6 Ляпина Л.Е. Проблема целостности лирического цикла // Целостность художественного произведения и проблемы его анализа в школьном и вузовском изучении литературы. С. 165.
-
7 Сапогов В.А. Указ. соч. С. 90.
-
8 Дарвин М.Н. Указ. соч. С. 14.
-
9 Гуминский В.М. Путешествие // Литературный энциклопедический словарь / под общ. ред. В.М. Кожевникова и П.А. Николаева. М., 1987. С. 314–315.
-
10 Шачкова В.А. «Путешествие» как жанр художественной литературы: вопросы теории // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. Н. Новгород, 2008. № 3. С. 277–281. (Филология. Искусствоведение).
-
11 Гуминский В.М. Указ. соч. С. 314–315.
-
12 Стеценко Е.А. История, написанная в пути…: (зап. и кн. путешествий в амер. лит. XVII–XIX вв.). М., 1999. С. 11.
-
13 Поздняев М. «Рядом и чуть впереди…»: штрихи к портрету Юрия Левитанского. С. 6.
-
14 Маслова Н.М. Путевой очерк: проблемы жанра. М., 1980.
-
15 Там же.
-
16 Ляпина Л.Е. Циклизация в русской литературе XIX века. С. 105.
-
17 Поздняев М. «Рядом и чуть впереди…»: штрихи к портрету Юрия Левитанского. С. 6.
-
18 Грибоедов А.С. Горе от ума. // Грибоедов А.С. Сочинения: в 2 т. М., 1997. Т. 1. С. 63.
-
19 См. подробнее: Орлицкий Ю.Б. Стих и проза в русской литературе: очерки истории и теории. Воронеж, 1991. С. 116–117; Орлицкий Ю.Б. Некоторые особенности циклизации в современной русской лирике // Европейский лирический цикл. Историческое и сравнительное изучение. М., 2003. С. 258.
-
20 Гете И.-В. Страдания юного Вертера: роман; Фауст: трагедия. М., 2002. С. 623
-
21 Якушева Г.В. Фаустиана // Литературная энциклопедия терминов и понятий / под ред. А.Н. Николюкина. М., 2003. Стб. 1128–1130.
-
22 Левитанский Ю. «Живите в будущем» // Шарманщик: театр музыки и поэзии. 1991. Ноябрь. URL: http://mpoetry.chat.ru/sharm.htm (дата обращения 06.12.2009).
-
23 Якушева Г.В. Фаустиана // Литературная энциклопедия терминов и понятий / под ред. А.Н. Николюкина. М., 2003. Стб. 1128–1130.
-
24 Поздняев М. «Рядом и чуть впереди…»: штрихи к портрету Юрия Левитанского. С. 6.
Список литературы «Путевой» цикл как структурообразующий элемент книги Ю. Левитанского «Письма Катерине, или прогулка с Фаустом»
- Поздняев М. «Рядом и чуть впереди…»: штрихи к портрету Юрия Левитанского//Литературная газета. 1983. № 50. 14 декабря. С. 6.
- Поздняев М. «А дальше будет фабула иная…»//Знамя. 1988. № 5. С. 214.
- Поздняев М. «Рядом и чуть впереди…»: штрихи к портрету Юрия Левитанского. С. 6.
- Дарвин М.Н. Проблема цикла в изучении лирики: учеб. пособие. Кемерово, 1983.
- Долгополов Л.К. На рубеже веков: о рус. лит. конца XIX-нач. XX в. Л., 1985.
- Ляпина Л.Е. Циклизация в русской литературе XIX века. СПб., 1999.
- Мирошникова О.В. Итоговая книга в поэзии последней трети ХIХ века: архитектоника и жанровая динамика: монография. Омск, 2004.
- Сапогов В.А. Сюжет в лирическом цикле//Сюжетосложение в русской литературе: сб. статей. Даугавпилс, 1980. С. 90-97.
- Фигут Р. Лирический цикл как предмет исторического и сравнительного изучения. Проблемы теории//Европейский лирический цикл. Историческое и сравнительное изучение: материалы междунар. науч. конф., Москва -Переделкино, 15-17 нояб. 2001 г./[сост. М.Н. Дарвин]. М., 2003. С. 11-37.
- Фоменко И.В. Лирический цикл: становление жанра, поэтика. Тверь, 1992.
- Исупов К. О жанровой природе стихотворного цикла//Целостность художественного произведения и проблемы его анализа в школьном и вузовском изучении литературы: тез. докл. республ. науч. конф. (г. Донецк, 12-14 октября 1977 г.). Донецк, 1977. С. 163-164.
- Ляпина Л.Е. Проблема целостности лирического цикла//Целостность художественного произведения и проблемы его анализа в школьном и вузовском изучении литературы. С. 165.
- Сапогов В.А. Указ. соч. С. 90.
- Дарвин М.Н. Указ. соч. С. 14.
- Гуминский В.М. Путешествие//Литературный энциклопедический словарь/под общ. ред. В.М. Кожевникова и П.А. Николаева. М., 1987. С. 314-315.
- Шачкова В.А. «Путешествие» как жанр художественной литературы: вопросы теории//Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. Н. Новгород, 2008. № 3. С. 277-281. (Филология. Искусствоведение).
- Гуминский В.М. Указ. соч. С. 314-315.
- Стеценко Е.А. История, написанная в пути…: (зап. и кн. путешествий в амер. лит. XVII-XIX вв.). М., 1999. С. 11.
- Поздняев М. «Рядом и чуть впереди…»: штрихи к портрету Юрия Левитанского. С. 6.
- Маслова Н.М. Путевой очерк: проблемы жанра. М., 1980.
- Ляпина Л.Е. Циклизация в русской литературе XIX века. С. 105.
- Поздняев М. «Рядом и чуть впереди…»: штрихи к портрету Юрия Левитанского. С. 6.
- Грибоедов А.С. Горе от ума.//Грибоедов А.С. Сочинения: в 2 т. М., 1997. Т. 1. С. 63.
- Орлицкий Ю.Б. Стих и проза в русской литературе: очерки истории и теории. Воронеж, 1991. С. 116-117.
- Орлицкий Ю.Б. Некоторые особенности циклизации в современной русской лирике//Европейский лирический цикл. Историческое и сравнительное изучение. М., 2003. С. 258.
- Гете И.-В. Страдания юного Вертера: роман; Фауст: трагедия. М., 2002. С. 623.
- Якушева Г.В. Фаустиана//Литературная энциклопедия терминов и понятий/под ред. А.Н. Николюкина. М., 2003. Стб. 1128-1130.
- Левитанский Ю. «Живите в будущем»//Шарманщик: театр музыки и поэзии. 1991. Ноябрь. URL: http://mpoetry.chat.ru/sharm.htm (дата обращения 06.12.2009).
- Поздняев М. «Рядом и чуть впереди…»: штрихи к портрету Юрия Левитанского. С. 6.