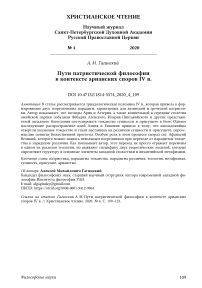Пути патристической философии в контексте арианских споров IV в
Автор: Гагинский Алексей Михайлович
Журнал: Христианское чтение @christian-reading
Рубрика: Философские науки
Статья в выпуске: 4 (93), 2020 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается триадологическая полемика IV в., которая привела к формированию двух теоретических парадигм, характерных для латинской и греческой патристики. Автор показывает, что взгляды Ария и Астерия, а также влиятельной в середине столетия омийской партии побудили Фебадия Агенского, Илария Пиктавийского и других представителей западного богословия постулировать тождество сущности и присущего в Боге. Однако последующее распространение идей Аэция и Евномия привело к тому, что каппадокийцы отвергли указанное тождество и стали настаивать на различии сущности и присущего, переосмыслив понятие Божественной простоты. Особую роль в этом процессе сыграл свт. Афанасий Великий, которого можно назвать невольным посредником при переходе от парадигмы тождества к парадигме различия. Как показывает автор, этот переход не просто отражает перемены в одном из разделов теологии, но выявляет специфику двух теоретических моделей, которые определяют структуру и основные элементы западной схоластики и византийской метафизики.
Патристика, парадигма тождества, парадигма различия, теология, метафизика, сущность, присущее, арианство
Короткий адрес: https://sciup.org/140250787
IDR: 140250787 | DOI: 10.47132/1814-5574_2020_4_109
Текст научной статьи Пути патристической философии в контексте арианских споров IV в
PhD, Senior Researcher, Institute of philosophy of the Russian Academy of Sciences.
Как известно, триадологическая полемика IV в. начинается благодаря пресвитеру Арию, основной тезис которого заключался в том, что если Сын рожден, то до рождения Его не было (Socrates. Historia ecclesiastica. I.5), а значит, Он сущностно и ипостасно отличен от Отца1, Который был всегда. В своем программном сочинении «Талия» Арий утверждал: «Сын не есть Нерожденный, и никоим образом не есть часть Нерожденного (οὐδὲ μέρος ἀγεννήτου), и не из какого-либо субстрата (οὔτε ἐξ ὑποκειμένου τινός)… [Сын] из не-сущего (ἐξ οὐκ ὄντων ἐστίν), а говорим мы так потому, что Он и не часть Бога (οὐδὲ μέρος θεοῦ), и не из какого-либо субстрата (οὐδὲ ἐξ ὑποκειμένου τινός)» (^eodoretus. Historia ecclesiastica. I.5). Согласно сохранившимся свидетельствам, Арий настойчиво проводил весьма простую, но крайне важную для него идею: Сын не есть часть Бога и не происходит из какого-либо субстрата. Александрийский пресвитер настаивал на том, что рождение Сына не было каким-то исторжением (προβολὴν), а потому Он не может быть единосущной частью Отца (μέρος ὁμοούσιον). Это значит, что библейские выражения «из Него», «из чрева», «от Отца исшел» (Ин 8:42; 16:27–28) следует понимать не в смысле разделения в Боге, ибо в таком случае «Отец будет сложным, делимым, изменяемым, телесным (σύνθετος… καὶ διαιρετὸς καὶ τρεπτὸς καὶ σῶμα)… бестелесный Бог потерпит сообразное телу» (Athanasius. De synodis. 16.2–5). И надо сказать, что в данном случае позиция Ария была вполне объяснимой: в рамках античной философской теологии первоначало бытия, т. е. Бог, должно мыслиться как нечто абсолютно простое, иначе необходимо допустить, что оно состоит из частей и есть что-то вторичное по отношению к ним. Это и отрицал Арий, а потому разделял Отца и Сына.
Схожую точку зрения занял и другой участник этой полемики — Астерий. Этот софист полагал, что «…есть две премудрости (δύο… σοφίας): одна собственная и соприсущая (τὴν ἰδίαν καὶ συνυπάρχουσαν) Богу — в этой премудрости рожден Сын, и лишь по причастию ей [Сын] именуется Премудростью и Словом» (Athanasius. Contra arianos. I.5)2. Для того чтобы сохранить единство и уникальность Отца, Астерий проводит различие между собственной и естественной силой Бога, с одной стороны, и некоей внешней силой, т. е. Сыном, с другой. Из сохранившихся фрагментов следует, что «вечная сила» Бога (ср.: Рим 1:20; 1 Кор 1:24) безначальна и соприсуща Отцу, а потому мыслится как нечто единое (μία καὶ ἡ αὐτή) с Ним, однако есть и другие силы (δυνάμεις), множественные и тварные, из которых «первородная и единородная» есть Христос (Asterius. Fragmenta. 64, 66.1–7). Такая трактовка позволяла Астерию провести сущностное различие между Отцом и Сыном, а потому она стала предметом острой критики со стороны ортодоксальных авторов. В рамках этой дискуссии была выработана определенная теоретическая модель, позволявшая отвергнуть соображения Ария и Астерия, которую можно назвать парадигмой тождества.
Данная парадигма распространяется главным образом среди западных мыслителей, таких как Фебадий Агенский, свт. Иларий Пиктавийский и Марий Викторин, которые пришли к схожим взглядам, причем независимо друг от друга. Вероятнее всего, сходство их аргументов связано с антиарианской полемикой, которую эти авторы вели в 50–60-х гг. IV в. Точнее говоря, отправной точкой становится не только позиция ранних ариан, но и влияние омийской партии, которая в то время обладала большим влиянием, призывая отказаться от термина «сущность», понимания Слова как силы Бога и признавая подобие Сына и Отца3. Например, Герминий Сирмийский озвучивает позицию, согласно которой Божественные имена относятся к «силам и действиям Божиим»4. Это вполне понятно: если понятие «сущность» находится под запретом, то имена следует относить именно к тому, что окрест Бога, т. е. к Его силам и действиям. Вопреки такой точке зрения, ортодоксальные авторы выдвигают тезис о совпадении сущности, действий, силы и прочих атрибутов в Боге. А именно, если Сын есть сила и премудрость Отца, как говорит апостол (Рим 1:20; 1 Кор 1:24), то совпадение сущности и силы в Боге будет предполагать и природное единство Отца и Сына.
Оглядывая панораму богословских мнений середины IV в., можно увидеть, что такого рода аргументация встречается у Фебадия Агенского. Выступая против «второй сирмийской формулы» (357)5, он обращает внимание на то, что запрет на использование термина «сущность» представляет собой скрытую попытку отойти от никейского Символа веры (Phoebadius. Contra arianos. 6.2–3). Поэтому Агенский епископ не торопится отказываться от этого понятия, определяя его следующим образом: «Сущностью (substantia) называется то, что всегда существует само собой: она есть то, что существует благодаря свойственной ей внутренней силе (propria intra se virtute), которая подобает лишь одному Богу» (Phoebadius. Contra arianos. 7.2). Весьма примечательно, что сущность здесь определяется через понятие «внутренней силы» — именно это позволит отождествить сущность и силу в Боге и таким образом обосновать единство Отца и Сына. Поэтому отнюдь не случайно, что в данном контексте Фебадий обращается к 1 Кор 1:24 — одному из ключевых текстов в аргументации Астерия и вообще в дискуссии с ранними арианами: «Мы говорим, что у обоих одна сила (virtutem), о которой говорит апостол: „Христос есть Сила Божия“ (virtus Dei est). Эта сила, поскольку не нуждается ни в чем извне, называется сущностью (virtus… dicta substantia est), как мы сказали выше: тем, что она есть, она обязана самой себе» (Phoebadius. Contra arianos. 8.3). Фебадий стремится доказать единство Отца и Сына с помощью отождествления сущности и силы в Боге: если сущность есть то, что существует благодаря своей внутренней силе (propria intra se virtute), которая есть Христос, то сила по определению составляет одно с сущностью, вследствие чего нельзя разделять Отца и Сына, как это делали Арий и Астерий.
Более четкое обоснование этого тезиса встречается у свт. Илария Пиктавийского. Как отмечает А. Р. Фокин, в трактате «О Троице» (356–360) свт. Иларий ведет полемику прежде всего с «ранней формой арианства», тогда как более позднее учение аномеев «остается вне поля зрения автора» [Фокин, 2014, 294–295]. Впрочем, как говорит М. Барнс, «Начиная с пятой книги Иларий уже не отождествляет своих оппонентов с „арианами“, и имеются основания полагать, что оппоненты, которых он имел в виду, были более современными» [Barnes, 2001, 157, n. 88]. Поэтому следует уточнить, что свт. Иларий полемизирует также с позицией омиев [Barnes, 1993; Weedman, 2007, 7], которые имели большое влияние благодаря поддержке имп. Констанция II. Вместе с тем, поскольку омийская партия окончательно оформилась лишь на Константинопольском соборе 360 г., следует принимать во внимание различные «переходные формы», которые ортодоксальными авторами без разбора именовались «арианами»6. Так или иначе, свт. Иларий в значительной степени ориентировался на аргументацию именно ранних ариан, которые утверждали, что учение о единосущии Отца и Сына делает Бога сложным. Об этом свидетельствует то, что он дважды цитирует послание
Ария к свт. Александру Александрийскому (Hilarius Pictaviensis. De Trinitate. IV.12–13; VI.5–6), очевидно, считая его важным для понимания точки зрения оппонентов. Вероятно, именно это и побуждает его обратиться к понятию Божественной простоты.
Опираясь на Евангелие от Иоанна (Ин 5:19; 10:30–38), свт. Иларий говорит о том, что Сын может творить дела Отца только в том случае, если Он обладает теми же свойствами, что и Бог (Hilarius Pictaviensis. De Trinitate. VII.26). Иначе говоря, Сын обладает Божественным достоинством потому, что у Него та же сила и природа, что и у Отца. В самом деле, спрашивает свт. Иларий, почему Сына нельзя назвать истинным Богом, «если Он не лишен ни природы, ни силы Бога (non desit Dei nec natura, nec virtus)? Он имеет в Своем распоряжении природную силу (naturae enim suae virtute) приводить в бытие из не-сущего и творить по Своему изволению» (Hilarius Pictaviensis. De Trinitate. V.3–4). Следовательно, можно говорить о природном единстве Отца и Сына. Как отмечает М. Видман, все это и приводит Пиктавийского епископа к теме Божественной простоты: «Убеждение Илария в том, что тождество действий демонстрирует тождество природы, побуждает его предложить учение о простоте Бога» [Weedman, 2007, 143]. Иными словами, представление о тождестве действий Отца и Сына как нельзя лучше сочетается с аксиомой Божественной простоты, смысловым центром которой теперь оказывается тезис о совпадении сущности и присущего в Боге.
Действительно, поскольку в Боге все едино, Он не может изменяться или состоять из частей, вследствие чего все Божественные атрибуты, такие как Свет, Сила, Жизнь, представляют собой нечто единое (Hilarius Pictaviensis. De Trinitate. VII.27). Свт. Иларий иллюстрирует это на следующем примере: огонь, зажженный от другого огня, не становится из-за этого сложным, точно так же и свет, происшедший от света, не вносит разделения в его природу (Hilarius Pictaviensis. De Trinitate. VII.29). Поэтому Бог, который есть Жизнь (qui vita est), Сила (qui virtus est), Свет (qui lux est) и Дух (qui spiritus est), не состоит из частей: «Все то, что в Нем — едино (totum in eo quod est, unum est): и Дух есть то, что и Свет, Сила и Жизнь; и что есть Жизнь, то есть Свет, Сила и Дух» (Hilarius Pictaviensis. De Trinitate. VII.27). Поэтому атрибуты не только совпадают с сущностью Бога, но и тождественны между собой. Свт. Иларий уточняет: Отец и Сын не только «по силе неотличны и по природе нераздельны (nec virtutem distinxit, nec naturam separavit)» (Hilarius Pictaviensis. De Trinitate. V.5), но и вообще в Боге, поскольку Он прост, нет различия между тем, чем Бог обладает, и тем, что Он есть. Исходя из этого он утверждает, что во всем тварном следует различать сущность и присущее, т. е. человека и человеческое, огонь и то, что присуще огню (Hilarius Pictaviensis. De Trinitate. VIII.22), поскольку они не просты, однако в Боге такое различие отсутствует: «Бог обнаруживает всего Себя через Свое (se omnem per sua) и дает понять, что Свое — это не что иное, как Он Сам (sua non aliud quam se esse). То, что Его, есть не что иное, как Он Сам» (Hilarius Pictaviensis. De Trinitate. VIII.24). Поэтому свт. Иларий отождествляет в Боге сущность и присущее, ибо «Бог не есть нечто сложное, наподобие человека, чтобы одно в Нем было то, что у Него имеется, а другим Сам тот, кто имеет (ut in eo aliud sit quod ab eo habetur, et aliud sit ipse qui habeat)» (Hilarius Pictaviensis. De Trinitate. VIII.43). Отождествление имеющего и имеющегося, сущности и присущего, — ибо Он есть не что иное, как то, что Он есть (non aliud autem sint, quam quod est ipse, quae sua sunt) (Hilarius Pictaviensis. De Trinitate. IX.31), — затем станет в латинской традиции основополагающим элементом теологии и будет составлять основную характеристику парадигмы тождества7.
Таким образом, свт. Иларий формулирует данное учение в контексте полемики с омиями и ранним арианством. Отныне в западной традиции Божественная простота будет пониматься как такой вид единства, в котором совпадают сущность и свойства, а также эти последние между собой. Данное учение служит одним из важнейших аргументов против Ария и его разнообразных сторонников: если Сын есть сила Отца
(Рим 1:20; 1 Кор 1:24), а сущность и сила тождественны благодаря абсолютной Божественной простоте, то Отец и Сын — одной и той же сущности. Схожую аргументацию развивают Марий Викторин, блж. Августин и Боэций, после чего она становится общераспространенной в латинской патристике и схоластике. Следует подчеркнуть, что это не просто один из разделов учения о Боге, речь идет о сложной концептуальной модели, которая определяет структуру и основные элементы не только теологии, но латинской метафизики в целом. Достаточно сказать, что философская теология Фомы Аквинского, в частности его учение о Боге как чистом акте бытия, была разработана именно в рамках этой теоретической парадигмы.
Итак, полемизируя с аргументацией раннего арианства и омийства, Фебадий Агенский и свт. Иларий Пиктавийский формулируют учение о тождестве сущности и присущего (свойств, сил, действий) в Боге. С одной стороны, данное учение позволяет им снять аргументацию Ария и Астерия, с другой же, оно сближает их с позицией аномеев — представителей поздней версии арианства. Как справедливо отмечает А. Р. Фокин, «Пиктавийский святитель, сам того не замечая, пришел к тому же самому умозаключению, что и евномиане, которое… свт. Василий Великий называл „софизмом“, содержащим множество нелепостей» [Фокин, 2018, 76]. Однако здесь возникает резонный вопрос: почему восточные мыслители отвергли парадигму тождества, настаивая на различии между сущностью и присущим в Боге? С кем они полемизировали и как отвечали на аргументы оппонентов?
Прежде всего следует сказать, что позиция Ария и Астерия первоначально вызвала схожую реакцию и на Востоке: свт. Афанасий Великий формулирует точку зрения, которая во многом совпадает с парадигмой тождества, хотя в некоторых деталях отличается от нее. Вполне возможно, что под влиянием авторитета свт. Афанасия парадигма тождества могла бы впоследствии распространиться и на Востоке, как это случилось на Западе, однако в начале 60-х гг. IV в. произошло чрезвычайно важное событие, оказавшееся переломным моментом в грекоязычных дискуссиях, которое привело к тому, что парадигма тождества была отвергнута, а на смену ей была предложена парадигма различия — принципиально иная теоретическая модель. Этим событием стало, как бы странно это ни звучало, появление неоарианства (аномей-ства), которое предложило новые аргументы против единосущия Отца и Сына и тем самым заставило пересмотреть доктрину Божественной простоты. Каким образом это произошло?
Как было показано выше, западные богословы полемизировали с представителями раннего арианства и омийства, специфика аргументации которых повлияла на то, какие возражения выдвигали против них оппоненты. Именно это и привело к формированию парадигмы тождества. Однако каппадокийцы имели дело уже с иной доктриной и другим способом аргументации, а потому они должны были пойти дальше и предложить более точное понимание Божественной простоты и вопроса о соотношении сущности и присущего в Боге. Тем не менее в случае свт. Афанасия Великого дело обстоит не так — его позиция также формировалась в полемике с ранними арианами и разными другими противниками Никейского Собора, при этом основные идеи, которые имеют отношение к парадигме тождества, были выражены им в контексте обсуждения позиции омиев и до того, как неоарианское движение громко заявило о себе. Поэтому едва ли стоит удивляться тому, что свт. Афанасий развивает точку зрения, напоминающую парадигму тождества. Напротив, данный прецедент как раз подтверждает, что эта парадигма была сформирована благодаря полемике с ранними арианами и омиями.
Как уже отмечалось, оппоненты свт. Афанасия полагали, что Христос есть одна из сил Бога, пусть «первородная и единородная», но не тождественная Ему по сущности. Астерий говорил о двух премудростях (δύο σοφίας), из которых одна — собственная и соприсущая Богу (τὴν ἰδίαν καὶ συνυπάρχουσαν), а вторая — возникшая и лишь по причастию именуемая так (μετέχοντα ὠνομάσθαι) (Asterius. Fragmenta. 64–66; Athanasius. Contra arianos. I.5; Athanasius. De synodis. 18). Александрийский епископ трактует взгляды своих оппонентов следующим образом: Слово — не истинный Бог, если же Оно и называется так, то лишь по причастию благодати (μετοχῇ χάριτος) (Athanasius. Contra arianos. I.6). Имея это в виду, свт. Афанасий стремится показать, что Сын есть собственная сила Отца, некая сущностная энергия: «Ясно, что Бог, будучи Творцом, имеет и зиждительное Слово не внешнее, но свойственное Себе (οὐκ ἔξωθεν, ἀλλ’ ἴδιον ἑαυτοῦ). Ибо опять нужно сказать то же самое: если Он имеет изволение, и изволение Его есть творческое, и изволения Его достаточно для составления созданного, — Слово же Его есть творческое и зиждительное, — то несомненно, что Оно есть живая Отчая воля, сущностная энергия (ἐνούσιος ἐνέργεια), истинное Слово, в котором все состоялось и прекрасно управляется» (Athanasius. Contra ariano. II.2).
В настоящее время исследователи все более склоняются к точке зрения, что «Слова против ариан» были написаны свт. Афанасием в начале 40-х гг., тогда как учение о единосущии он начинает активно отстаивать только в 50-е гг. [Gwynn, 2007, 21–26; Ayres, 2004b]. С этим связано не вполне типичное для последующей традиции понимание Сына как энергии Отца, хотя оно вполне традиционно для предшествующего богословия. Вопреки арианскому тезису о том, что нет ничего из сущности Отца (οὐδὲν γάρ ἐστιν ἐκ τῆς οὐσίας αὐτοῦ) (^eodoretus. Historia ecclesiastica. I.6), свт. Афанасий настаивает: Сын рожден от Отца, τουτέστιν ἐκ τῆς οὐσίας τοῦ Πατρὸς — «то есть из сущности Отца» (Eusebius. Epistula ad Caesarienses. 8; Athanasius. De decretis. 33.8). Таким образом, свт. Афанасий строго следует определениям Никейского Собора, который утвердил легитимность «языка сущности» в богословии. Этот язык позволял избежать догматической неопределенности, но сильно заострял проблему, что затрудняло диалог между противоборствующими богословскими партиями. Фактическая неудача имп. Константина, возлагавшего большие надежды на то, что с помощью Вселенского Собора можно решить проблему церковных раздоров, привела к необходимости пересмотреть стратегию, на передний план выдвинув политику компромисса. Дальнейшая поддержка властью евсевианского альянса8, опиравшегося на более нейтральное «богословие образа», с этой точки зрения выглядит вполне объяснимо, равно как и то, что свт. Афанасий, отстаивающий никейские формулы, постепенно начинает восприниматься как возмутитель спокойствия. В 50-е гг. IV в. при поддержке имп. Констанция II набирает силу омийское течение, предложившее вообще отказаться от понятия «сущность» в богословии и тем самым снять проблему9.
Подобно Фебадию и свт. Иларию, отвечая на вызов омийства около 358 г., свт. Афанасий приходит к мысли, что отказ от понятия «сущность» не только подрывает основы Никейского Собора, но и делает речь о Боге совершенно беспредметной или даже невозможной. Он пишет: «Чем вам не угодило выражение „из сущности“? Ибо прежде всего необходимо рассудить, что и вы написали: Сын рожден от Отца. Ведь если, именуя Отца или произнося имя „Бог“, вы обозначаете не сущность (οὐκ οὐσίαν σημαίνετε) и мыслите не самого Сущего, каков Он по сущности (οὐδὲ αὐτὸν τὸν ὄντα ὅπερ ἐστὶ κατ’ οὐσίαν νοεῖτε), а что-то иное окрест Него (ἕτερόν τι περὶ αὐτὸν) или даже худшее с помощью этого обозначаете, что мне и не произнести, то вам не нужно было писать, что Сын „от Отца“, но — „из того, что окрест Него или из того, что в Нем“ (ἐκ τῶν περὶ αὐτὸν ἢ τῶν ἐν αὐτῷ), чтобы, избежав утверждения, что Бог истинно Отец, сделаться изобретателями новейшего кощунства: воображать простого сложным (σύνθετον δὲ τὸν ἁπλοῦν) и представлять Его телесно (σωματικῶς). Думая таким образом, вы по необходимости признаете Слово и Сына не сущностью, а только именем (οὐκ οὐσίαν, ἀλλ’ ὄνομα μόνον νομίζετε), и в результате имеете представление лишь об именах, и говорите не о том, что считаете существующим, а о том, что полагаете несуществующим» (Athanasius. De synodis. 34.3–4).
Как и свт. Иларий Пиктавийский, который исходил из тезиса «имя обозначает природу» (nomen naturae signi^catio)10, свт. Афанасий здесь говорит о том, что имена относятся именно к сущности, а не к тому, что окрест нее, как это будет у каппа-докийцев11. Он размышляет на эту тему в контексте полемики с омиями, поэтому вопрос о сущности для него связан с отношением между Отцом и Сыном, т. е. такое понимание функции имен в богословии оказывается реакцией на «вторую сирмий-скую формулу» и в первую очередь призвано реабилитировать понятие «сущность», понимаемое как денотат — то, что обозначается именем.
В самом деле, если имя не обозначает сущность, то на что оно может указывать? Свт. Афанасий считает, что имя может указывать на нечто окрест Бога (περὶ αὐτόν), т. е. то, что вокруг (περί) сущности — не она сама, а нечто внешнее по отношению к ней, ее свойства и предикаты, или энергии, которые не тождественны с сущностью. Однако в таком случае имена «Бог», «Отец», «Слово», «Сын» окажутся чем-то внешним по отношению к предмету речи, они будут свойствами без сущности, которые сами по себе не существуют, а потому — лишь пустыми именами (ὄνομα μόνον). А это значит, что не будет никаких оснований говорить о том, что Сын рожден от Отца, да и вообще речь о Боге окажется невозможной, поскольку, не обозначая сущность, она не будет относиться к предмету речи.
Кроме того, если Сын лишь подобен Отцу и происходит из того, что окрест сущности, то Бог окажется сложным, ведь Он будет состоять из сущности и присущего, как и все телесное. Cо стороны свт. Афанасия данный аргумент есть не что иное, как reductio ad absurdum, использовавшийся для того, чтобы обернуть оружие противников против них самих, ведь Арий и прочие противники Никеи настойчиво отрицали какую-либо сложность в Боге (Athanasius. De synodis. 16.5). Неслучайно схожие идеи развивали и западные мыслители, такие как свт. Иларий Пиктавийский или Марий Викторин12, которые сочли возможным отождествить сущность и присущее в Боге, чтобы обосновать сущностное единство Отца и Сына. По этому пути двинулся и свт. Афанасий, который продолжает возражать омиям следующим образом: «Поэтому вы скажете, что и тварь не есть создание Самого сущего Бога, если даже „Отец“ и „Бог“ не саму сущность Сущего обозначают (οὐκ αὐτὴν τὴν τοῦ ὄντος οὐσίαν σημαίνουσιν), но нечто иное (ἕτερόν τι), как вы воображаете. Но даже и помыслить такое нечестиво и крайне непристойно. Когда же слышим „Я есть Сущий“… то понимаем под этим не что иное, как саму простую, блаженную и непостижимую сущность Сущего (αὐτὴν τὴν ἁπλῆν καὶ μακαρίαν καὶ ἀκατάληπτον τοῦ ὄντος οὐσίαν); ведь хотя и невозможно постичь, что такое Он есть (ὅ τι ποτέ ἐστιν), все же слыша „Отец“, „Бог“, „Вседержитель“, мы понимаем под этим не что иное, как обозначение самой сущности Сущего (οὐχ ἕτερόν τι, ἀλλ’ αὐτὴν τὴν τοῦ ὄντος οὐσίαν σημαινομένην νοοῦμεν). А вы сказали „Сын от Бога“, т. е. ясно сказали: Он „от сущности Отца“. <…> Почему вы считаете, что отцы плохо сказали „Сын из сущности Отца“, рассудив, что сказать „из Бога“ есть ровно то же самое, что сказать „из сущности“? (ταυτὸν εἶναι τὸ εἰπεῖν ὀρθῶς ἐκ τοῦ θεοῦ καὶ τὸ εἰπεῖν ἐκ τῆς οὐσίας;)» (Athanasius. De synodis. 35.1–3).
Аргументация вполне понятная, но ее основная проблема состоит в том, что свт. Афанасий не придавал значения различию ипостасных и сущностных характеристик, и даже в конце 60-х гг. он утверждает, что эти понятия значат одно и то же: «Ипостась есть сущность (ὑπόστασις οὐσία ἐστὶ) и не означает ничего иного, кроме самого бытия (αὐτὸ τὸ ὄν)… Ибо ипостась и сущность — это существование (ὕπαρξις)» (Athanasius. Ad Afros episcopos. 4). Поэтому он полагает, что если имя не обозначает сущность, то о Боге нельзя ничего сказать. Например, нельзя сказать «Бог сотворил мир», потому что слово «Бог» обозначает в таком случае что-то иное (ἕτερόν τι), т. е. не отсылает к Нему самому, к Его сущности. Очевидно, свт. Афанасий не видел другого выхода из этой ситуации, кроме как признать, что имена обозначают саму сущность, в противном случае речь о Боге оказалась бы невозможной. Именно это сближает свт. Афанасия с парадигмой тождества и в то же время создает предпосылки для успешного распространения неоарианства, которое не заставило себя долго ждать.
В самом деле, в течение нескольких лет появляются трактаты Аэция и Евномия, в которых аргументация свт. Афанасия была неожиданным образом переосмыслена. Так, если имя действительно обозначает сущность, то следует допустить, что сущность есть обозначаемое, ведь обозначение выражает обозначаемое, делая последнее постижимым. Именно такой шаг сделали неоариане, поставив свт. Афанасия в трудное положение. Впрочем, сам Александрийский епископ уточняет, что хотя Божественные имена и обозначают сущность, последняя тем не менее остается непостижимой. В «Письме к монахам» он пишет: «Ведь хотя мы и не можем постигнуть, чтó есть Бог (τί ἐστι θεός), однако можем сказать, что Он не есть (τί οὐκ ἔστιν)» (Athanasius. Epistula ad monachos. 2). В таком же смысле он комментирует слова апостола: «…нужно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть» (Евр 11:6), свт. Афанасий поясняет: «Он не сказал, как есть, а только, „что есть“ (οὐ γὰρ, πῶς ἐστιν, εἴρηκεν, ἀλλὰ μόνον, „ὅτι ἔστιν“)» (Athanasius. Ad Serapionem. I.18). Отсюда следует, что непосредственная связь имени и сущности еще не дает знания о последней, поэтому позицию свт. Афанасия можно определить следующим образом: имя указывает на сущность, но не тождественно ей, обозначение обеспечивает референцию, ведь имя указывает на предмет, однако имя-обозначение не выражает значения искомой сущности, не раскрывает Божественную непостижимость [DelCogliano, 2010, 130]. Иначе говоря, значение не тождественно обозначению: из описания Бога можно составить о Нем представление, но нельзя познать, что Он есть по сущности.
Если бы аномеи заявили о себе десятилетием ранее, возможно, свт. Афанасий занял бы другую позицию в отношении философии языка и разработал бы другую аргументацию. Однако свои взгляды он выразил еще в 40–50-е гг., когда Аэций с Ев-номием были мало кому известны. Другой текст свт. Афанасия поясняет некоторые неясные моменты, которые присутствуют в процитированных выше фрагментах: «Если некоторые думают, что Бог — сложен (σύνθετον), так что имеет в сущности привходящее, или некий внешний покров, которым закрывается, или есть нечто окрест Него, восполняющее Его сущность (ὡς ἐν τῇ οὐσίᾳ τὸ συμβεβηκὸς ἢ ἔξωθέν τινα περιβολὴν ἔχειν καὶ καλύπτεσθαι ἢ εἶναί τινα περὶ αὐτὸν τὰ συμπληροῦντα τὴν οὐσίαν αὐτοῦ), вследствие чего, произнося „Бог“ или называя „Отец“, мы обозначаем не саму невидимую и непостижимую Его сущность, а что-то окрест Него (μὴ αὐτὴν τὴν ἀόρατον αὐτοῦ καὶ ἀκατάληπτον οὐσίαν σημαίνειν, ἀλλά τι τῶν περὶ αὐτόν), то пусть порицают Собор, который написал, что Сын — „из сущности Бога“, а также поймут, что дважды кощунствуют, думая таким образом: вводят некоего телесного Бога (θεὸν σωματικόν) и сочиняют, что Господь есть Сын не самого Отца, но того, что окрест Него (τὸν κύριον οὐκ αὐτοῦ τοῦ πατρός, ἀλλὰ τῶν περὶ αὐτὸν εἶναι υἱὸν). Если же Бог есть нечто простое, как это и есть, то ясно, что говоря „Бог“ и именуя „Отец“, мы не что-то окрест Него именуем, но саму сущность Его обозначаем (οὐδέν τι ὡς περὶ αὐτὸν ὀνομάζομεν, ἀλλ’ αὐτὴν τὴν οὐσίαν αὐτοῦ σημαίνομεν). Ведь хотя и невозможно постичь то, что такое сущность Бога, мы все же понимаем, что Бог есть, да и Писание, обозначая Его так, не кого иного хочет обозначить, как Того, Кого мы называем Богом, Отцом и Господом. Поэтому, когда говорится „Я есть Сущий“ и „Я есть Господь Бог“ (Исх 3:14; 20:2), и когда Писание говорит „Бог“, мы узнаем в этом не что иное, как обозначение самой Его непостижимой сущности (αὐτὴν τὴν ἀκατάληπτον αὐτοῦ οὐσίαν), и то, что существует Тот, о Ком идет речь (καὶ ὅτι ἔστιν ὅνπερ λέγουσιν)» (Athanasius. De decretis. 22.1–3).
Свт. Афанасий говорит о том, что Бог окажется сложным, если допустить, что Он состоит из сущности и присущего, как бы последнее ни понималось: будь то случайный признак (τὸ συμβεβηκὸς), внешний покров (ἔξωθέν περιβολὴν) или нечто окрест Бога (περὶ αὐτὸν), восполняющее Его сущность. Ясно, что уже в этом послании, написанном в самом начале 50-х гг., т. е. задолго до появления второй сирмийской формулы, свт. Афанасий стремится обосновать точку зрения, согласно которой Бог имеет Слово «не внешнее, но свойственное Себе (οὐκ ἔξωθεν, ἀλλ’ ἴδιον ἑαυτοῦ)», и опровергает тех, кто полагает, что Христос есть «Сын не самого Отца, но того, что окрест Него» (позиция, характерная как для ариан, так и для омиев). Именно поэтому свт. Афанасий стремится доказать, что имена относятся к самой сущности: если Бог совершенно прост, то имена не могут указывать на что-то внешнее по отношению к Нему, иначе пропадет связь между именованием и именуемым. С точки зрения теории референции, западная парадигма тождества была основана на такой же логике. Разница между ними в том, что Александрийский епископ не доходит до утверждения, что предикаты тождественны Божественной сущности и между собой13 (иначе не возникало бы опасности помыслить Бога сложным), тем не менее он озвучивает очень близкую позицию, у которой был один существенный изъян.
Если все имена указывают на сущность, которая совершенно проста, то как в ней согласуются противоположные наименования, например «Рожденный» и «Нерожденный»? Возможно, именно позиция свт. Афанасия Великого оказала влияние на становление взглядов Аэция и Евномия [Kopecek, 1979, 114–127; DelCogliano, 2010, 128–134]. Согласно их представлениям, имя не только указывает на сущность, но и в определенном отношении тождественно ей, вследствие чего Отец и Сын не только не единосущны, но даже и не подобны друг другу, потому что один — Нерожденный, а другой — Рожденный. Более того, если имя выражает сущность, то последняя не может быть совершенно непостижимой и недоступной познанию, напротив, она познаваема ровно настолько, насколько познаваемо ее имя. Отнюдь не случайно аномеям ставили в упрек, что они якобы постигли сущность Бога: «Столь отчетливо я знаю Бога и настолько знаю и понимаю Его (ἐπίσταμαι καὶ οἶδα), — передает Епифа-ний Кипрский мнение Аэция, — что самого себя не знаю лучше, чем знаю Бога (ὥστε μὴ εἰδέναι ἐμαυτὸν μᾶλλον ὡς θεὸν ἐπίσταμαι)» (Epiphanius. Panarion. 76.4). Конечно, в самих текстах аномеев таких выражений не найти, да и сам Епифаний после этого добавляет: «многое и другое мы о нем слышали…». Из этого следует, что он передает, скорее всего, какое-то устное предание, вероятно, достаточно распространенное, чтобы оно заслуживало упоминания14. И тем не менее, несмотря на то, что это больше похоже на полемическое преувеличение, трудно отрицать, что для такого обвинения были основания, связанные с философией языка аномеев.
Как известно, основное положение аномейской доктрины связано с истолкованием Божественной сущности через понятие «нерожденность» (τὸ ἀγέννητον)15. Как пишет Аэций: «Бог нескончаемо пребывает в нерожденной природе… (ἀτελευτήτως ὁ θεὸς διαμένει ἐν ἀγεννήτῳ φύσει)» (Aetius. Syntagmation. 4). Речь идет не просто о каком-то свойстве Бога, но скорее о том, «чем божественен бог» (Plato. Phaedrus. 249c), поскольку божественность в данном случае связывается с нерожденностью, которая характеризует или даже конституирует божественность Божественного. Иначе говоря, есть некая нерожденная природа, которая божественна в силу того, что она одна является нерожденной, соответственно, потеря этой уникальной характеристики была бы равнозначна потере божественности. Сущность божественности заключается в нерожденности, поэтому «…нерожденность необходимо должна выявлять сущность (…ἀνάγκη οὐσίαν δηλοῦν τὸ ἀγέννητον)» (Aetius. Syntagmation. 28). Понятие «нерожден-ность» здесь имеет два аспекта: во-первых, оно указывает на противоположность рожденности, поскольку богословие говорит об Отце и Сыне; во-вторых, оно указывает на то, что не начало быть, не имело возникновения. Отсюда следует тезис Аэция: «Если Бог есть нерожденный по сущности (ἀγέννητός ἐστιν ὁ θεὸς τὴν οὐσίαν), то рожденное рождено не разделением сущности, но произведено произвольно. Ведь никакое благочестивое учение не допускает, чтобы одна и та же сущность была рожденной и нерожденной (τὴν γὰρ αὐτὴν οὐσίαν καὶ γεννητὴν εἶναι καὶ ἀγέννητον)» (Aetius. Syntagmation. 5).
Таким образом, нерожденное не может передать свой сущностный, или определяющий признак рожденному, поскольку рожденное и нерожденное противоположны, следовательно, рожденный Сын не может быть той же сущности, что и нерожденный Отец. Следует заметить, что эта аргументация основана на понимании имени как того, что характеризует природу, а также связана с неразличением ипостасных и сущностных признаков. Как отмечалось выше, такую точку зрения развивал свт. Афанасий Великий: «…слыша „Отец“, „Бог“, „Вседержитель“, мы понимаем под этим не что иное, как обозначение самой сущности Сущего (αὐτὴν τὴν τοῦ ὄντος οὐσίαν σημαινομένην)» (Athanasius. De synodis. 35.2). Если имя «Отец», Которого все признают нерожденным, указывает не на ипостась, а на сущность Бога, то имя «Сын» следует связывать с понятием рожденного, которое, однако, уже не может без противоречия указывать на ту же самую сущность, ибо «никакое благочестивое учение не допускает, чтобы одна и та же сущность была рожденной и нерожденной».
Развивая эту мысль, Аэций продолжает: «Если же сущность Бога (ἡ οὐσία τοῦ θεοῦ) неизменна и превыше рождения, то относящееся к Сыну надо признать простым наименованием (ψιλῆς προσηγορίας)» (Aetius. Syntagmation. 8). И далее: «Если нерожденность не представляет существа Бога (εἰ μὴ τὸ ἀγέννητον τὴν ὑπόστασιν τοῦ θεοῦ παρίστησιν), но несравненное имя есть человеческое представление (ἀλλ’ ἐπινοίας ἐστὶν ἀνθρωπίνης τὸ ἀσύγκριτον ὄνομα), то Бог… должен быть благодарен тем, кто придумал его» (Aetius. Syntagmation. 12). Как видно, нерожденность понимается Аэцием как то, что выражает τὴν ὑπόστασιν τοῦ θεοῦ — само существо Бога. Очевидно, что термин «ипостась» здесь синонимичен «сущности»16. Как и свт. Афанасий, Аэций не различает эти понятия и говорит о том, что именование не может относиться к тому, что вне Бога: «Если нерожденность усматривается в Боге извне (ἔξωθεν), то те, кто усматривают, лучше Того, в Ком она усматривается, давая Ему имя превыше природы» (Aetius. Syntagmation. 13). И в другом месте: «Если нерожденность есть лишь имя для Бога (ψιλὸν ὄνομά), а голое произнесение (ψιλὴ προφορὰ) возвышает существо Бога (τὴν ὑπόστασιν τοῦ θεοῦ) над всем рожденным, значит, людское произнесение почетнее существа Вседержителя (τῆς τοῦ παντοκράτορος ὑποστάσεως), т. к. оно украсило Бога Вседержителя несравненным превосходством» (Aetius. Syntagmation. 26). Таким образом, Аэций отстаивает позицию, в рамках которой имя относится к сущности, более того, оно выражает сущность, каковая уже не может быть непознаваемой, поскольку человеку открыта ее наиболее существенная характеристика. Кроме того, из этого делается вывод, что Отец и Сын не только сущностно различны, но даже и не подобны. Вряд ли будет преувеличением сказать, что не только позиция свт. Афанасия была достаточно уязвима перед аргументами Аэция, но и попытки омийской партии найти компромисс на этом фоне терпели полную неудачу.
По всей видимости, все это привело к тому, что тринитарные споры возобновились с новой силой. По этой причине имп. Констанций II, искавший примирения враждующих сторон и продвигавший для этого омийскую партию, вскоре отправил Аэция в ссылку. Однако его дело продолжил ближайший ученик — Евномий. Когда в начале 60-х гг. IV в. Евномий выступил со своим учением, он вызвал критику в свой адрес не только потому, что учил о неподобии Отца и Сына, но и потому, что из его утверждений следовало, что Бог постижим17. Действительно, если допустить тождество сущности и предикатов в Боге, то необходимо признать, что сущность постижима ровно настолько, насколько постижимы ее предикаты. Из текстов Евномия следует, что сущность Бога выразима в понятии18; следовательно, если мы познали значение этого понятия, то тем самым познали и Его сущность19. Как отмечает А. Рэдд-Галлвиц, «По Евномию, если Бог прост, то именования, которые мы относим к Богу, „обо-значают“ (σημαίνειν) единую сущность, которая есть Бог… Вот почему все термины, прилагаемые к единой простой сущности, должны быть синонимами: тождество референции гарантирует тождество смысла. <…> Доктрина простоты, по Евномию, обеспечивала объективную природу познания Бога. Поскольку у Бога нет несущностных свойств, то в какой мере мы знаем Бога, в такой мы знаем саму Его сущность» [Radde-Gallwitz, 2009, 111–112]. Нетрудно заметить, что позиция Евномия весьма близка к парадигме тождества. Именно эту концепцию и отвергли каппадокийцы, тем самым задав новый вектор развития византийской теологии и метафизики.
В самом деле, столкнувшись с вызовом поздней версии арианства, свт. Василий Великий решает отказаться от принципиально важных допущений, которые разделяли свт. Афанасий, а также Аэций и Евномий. А именно, свт. Василий (1) проводит различие между сущностью и ипостасью, что позволяет ему (2) пересмотреть теорию референции, характерную для парадигмы тождества, при этом он (3) обосновывает различие между сущностью и присущим (энергиями), благодаря чему (4) переосмысляет доктрину Божественной простоты. В частности, епископ Кесарийский указывает на то, что имена относятся не к сущности Бога, ибо она запредельна и непостижима, а к Его действиям, или проявлениям: «Бог прост (ἁπλοῦς ὁ Θεός), говорит [Евномий], и все, что бы ты ни перечислил в Нем как познаваемое, принадлежит сущности (τῆς οὐσίας ἐστί). Но это софизм, заключающий в себе тысячу нелепостей. Многое мы перечислили, но разве все это — имена одной сущности (μιᾶς οὐσίας ὀνόματα)? И разве равнозначны друг другу (ἰσοδυναμεῖ ἀλλήλοις) страх и человеколюбие, Его справедливость и созидательность, предведение и возмездие, величие и промышление? И что ни назовем из этого, укажем на сущность? Ведь если они это говорят, то пусть не спрашивают, знаем ли мы сущность Бога, но выяснят у нас: знаем ли мы, что Бог страшен, или справедлив, или человеколюбив? Мы признаем, что знаем это. А если они называют сущностью что-то другое (ἄλλο τι), то пусть не вводят нас в заблуждение при помощи простоты (μὴ παραλογιζέσθωσαν ἡμᾶς διὰ τῆς ἁπλότητος). Ведь они сами признали, что сущность есть одно и другое, и каждое из перечисленного. Однако разнообразны действия (ἐνέργειαι), а сущность проста (ἡ δὲ οὐσία ἁπλῆ). Мы говорим, что познаем Бога нашего по действиям, но не обещаем приблизиться к самой сущности. Ибо хотя действия Его до нас и нисходят, но сущность Его остается недоступной» (Basilius. Epistulae. 234. 1. 27–31). Из этого следует, что для свт. Василия принципиально важно различие сущности и энергии, которое имеет, разумеется, не только гносеологическое значение, как иногда думают отечественные исследователи, но и онтологическое. Кроме того, он четко выражает точку зрения, согласно которой имена относятся не к сущности, но именно к действиям Бога, а потому аргументация Евномия оказывается совершенно бесплодной.
В заключение остается сказать, что триадологическая полемика IV в. приводит к тому, что на Востоке и Западе закрепляются две фундаментальные парадигмы, которые определяют строение греческой и латинской метафизики, различаясь в трактовке компетенций разума, теории референции, понимании Божественной простоты и целого комплекса сопутствующих тем. С тех пор и до настоящего времени указанные парадигмы, или теоретические модели, будут существовать независимо одна от другой, постепенно создавая внутреннее напряжение в отношениях восточных и западных мыслителей. Например, в поздневизантийский период различие этих парадигм, которые воспринимались как исходные установки, приведет к конфликту между византийскими томистами и паламитами, поскольку первые работали в рамках парадигмы тождества, тогда как вторые — в рамках парадигмы различия. Поэтому не будет преувеличением сказать, что дискуссия о Божественных энергиях и возможности допустить в Боге что-то, что не было бы Его сущностью, берет начало именно в арианской полемике IV в. До сих пор, насколько мне известно, ученые не обращали на это внимания.
Список литературы Пути патристической философии в контексте арианских споров IV в
- Wickham L. R. The "Syntagmation" of Aetius the Anomean // The Journal of Theological Studies. Oxford, 1968. Vol. 19. No. 2. P. 532-569.
- Asterius von Kappadokien. Die Theologischen Fragmente / Einleitung, kritischer Text, Übersetzung und Kommentar von M. Vinzent. Leiden, 1993.
- Athanasius. Ad Afros episcopos // Patrologia graeca / Ed. par J. P. Migne. T. 26. Col. 1029-1048.
- Athanasius Werke / Hrsg. K. Savvidis. Berlin, 2010. Vol. I.1. S. 449-600.
- Athanasius Werke / Metzler K. Berlin, 1998-2000. Vol. I.1. S. 109-381.
- Athanasius Werke / H.-G. Opitz. Berlin; Leipzig, 1940. Vol. II.1. S. 1-45.
- Athanasius Werke / Hrsg. H. G. Opitz. Berlin, 1940. Vol. 2.1. S. 231-278.
- Athanasius Werke / Hrsg. H. G. Opitz. Berlin, 1940. Vol. 2.1. S. 181-182.
- Basile de Césarée. Contre Eunome I-III // Sources chrétiennes. 299, 305 / Ed. par B. Sesboüé. Paris, 1982-1983.
- St. Basile. Lettres: in 3 vol. / Ed. par Y. Courtonne. Paris, 1957.
- Epiphanius. Ancoratus und Panarion / Hrsg. K. Holl. Leipzig, 1915-1933. Bd. 1-3. (Die griechischen christlichen Schriftsteller 25, 31, 37).
- Eunomius. The Extant Works: Text and Translation / Ed. by R. P. Vaggione. Oxford: Clarendon press, 1987.
- Athanasius Werke / Hrsg. H. G. Opitz. Berlin, 1940. Vol. 2. S. 128-131.
- Patrologia graeca / Ed. par J. P. Migne. T. 46. Col. 553-576.
- Patrologia Latina / Ed. par J. P. Migne. T. 10. Col. 25-472.
- Platonis opera / Ed. by J. Burnet. Oxford, 1900-1907. In 5 vols.
- Patrologia Latina / Ed. par J. P. Migne. T. 20. Col. 13-30.
- Socrates' ecclesiastical history / Ed. by W. Bright. Oxford: Clarendon Press, 1893. P. 1-330.
- Patrologia graeca / Ed. par J. P. Migne. T. 83. Col. 336-556.
- Theodoret. Kirchengeschichte / Hrsg. L. Parmentier, F. Scheidweiler. Berlin, 1954.
- Бирюков Д. С. Рационализм и его пределы в арианском учении // Схолэ: Философское антиковедение и классическая традиция. Новосибирск, 2008. Т. 2. Вып. 2. С. 213-226.
- Брэдшоу Д. Аристотель на Востоке и на Западе: Метафизика и разделение христианского мира. М., 2012. 384 с.
- Захаров Г. Е. Иллирийские церкви в эпоху арианских споров (IV - начало V в.). М., 2012. 377 с.
- Захаров Г. Е. Послания Герминия Сирмийского: текст и историко-богословский комментарий // Вестник ПСТГУ. Сер. II: История. История Русской Право- славной Церкви. М., 2012. Вып. 1 (44). С. 111-120.
- Захаров Г. Е. Церковные течения эпохи арианских споров: проблемы типологизации // Вестник ПСТГУ. Сер. II: История. История Русской Православной Церкви. М., 2017. Вып. 77. С. 11-22.
- Попов И. В. Святой Иларий, епископ Пиктавийский // Попов И. В. Труды по патрологии: Святые отцы II-IV вв. Сергиев Посад, 2004. Т. 1. 744 с.
- Попов И. В. Личность и учение блаженного Августина // Попов И. В. Труды по патрологии. Сергиев Посад, 2005. Т. 2. 776 с.
- Фокин А. Р. Формирование тринитарной доктрины в латинской патристике. М., 2014. 785 с.
- Фокин А. Р. Доктрина Божественной простоты: исторические формы и современные дискуссии // Труды кафедры богословия СПбДА. 2018. № 1 (2). С. 60-96.
- Фокин А. Р. "Intellegentia simplicitatis": доктрина Божественной простоты у Мария Викторина, ее философские источники и богословское значение // Вестник ПСТГУ. Сер. I: Богословие. Философия. Религиоведение. Москва, 2018. Вып. 78. С. 28-46.
- Anatolios K. Athanasius. The Coherence of His Thought. London, 2005. 257 p.
- Ayres L. Nicaea and Its Legacy: An Approach to Fourth-Century Trinitarian Theology. Oxford University Press, 2004. 475 p.
- Ayres L. Athanasius' Initial Defense of the Term homoousios: Rereading the De Decretis // Journal of Early Christian Studies. Baltimore, 2004. Vol. 12. No. 3. P. 337-359.
- Barnes M. R. The Arians of Book V, and the Genre of De Trinitate // The Journal of Theological Studies. Oxford, 1993. Vol. 44. No. 1. P. 185-195.
- Barnes M. R. Power of God. Δύναμις in Gregory of Nyssa's Trinitarian Theology. Washington, 2001. 352 p.
- Boularand E. L'hérésie d'Arius et la "foi" de Nicée. Paris, 1972. 462 p.
- Cary Ph. Augustine's Invention of the Inner Self: The Legacy of a Christian Platonist. Oxford, 2000. 240 p.
- DelCogliano M. Basil of Caesarea's Anti-Eunomian Theory of Names: Christian Theology and Late-Antique Philosophy in the Fourth Century Trinitarian Controversy. Leiden; Boston, 2010. 300 p.
- Gwynn D. M. The Eusebians: The Polemic of Athanasius of Alexandria and the Construction of the ‘Arian Controversy'. Oxford University Press, 2007. 294 p.
- Heil U. The Homoians // Arianism: Roman Heresy and Barbarian Creed / Ed. by G. M. Berndt, R. Steinacher. Farnham, 2014. P. 85-116.
- Kopecek Th. A History of Neo-Arianism. Philadelphia, 1979. Vol. 1. 553 p.
- Larchet J.-C. La théologie des énergies divines. Des origines à saint Jean Damascène. Paris, 2010. 479 p.
- Radde-Gallwitz A. Basil of Caesarea, Gregory of Nyssa, and the Transformation of Divine Simplicity. Oxford University Press, 2009. 272 p.
- Toom T. Hilary of Poitiers' De Triniate and the Name(s) of God // Vigiliae Christianae. 2010. Vol. 64/5. P. 456-479.
- Weedman M. The Trinitarian Theology of Hilary of Poitiers. Leiden, 2007. 236 p.
- Williams D. H. Another Exception to Later Fourth-Century "Arian" Typologies: The Case of Germinius of Sirmium // Journal of Early Christian Studies. Baltimore, 1996. No. 4. P. 335-357.