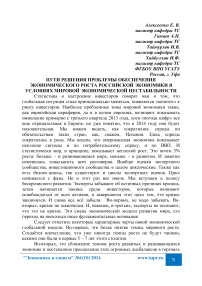Пути решения проблемы обеспечения экономического роста российской экономики в условиях мировой экономической нестабильности
Автор: Алексеенко Е.В., Гимаев А.Н., Таймурзин И.В., Хайбуллин И.Ф.
Журнал: Экономика и социум @ekonomika-socium
Статья в выпуске: 1-1 (10), 2014 года.
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/140106490
IDR: 140106490
Текст статьи Пути решения проблемы обеспечения экономического роста российской экономики в условиях мировой экономической нестабильности
Статистика и настроение инвесторов говорят нам о том, что глобальная ситуация стала принципиально меняться, появляется «аппетит» к риску инвесторов. Наиболее проблемные зоны мировой экономики такие, как европейская периферия, да и в целом еврозона, начинают показывать оживление примерно с третьего квартала 2013 года, хотя «погода цифр» все еще отрицательная в Европе, но уже понятно, что в 2014 году она будет положительная. Мы можем видеть, как сократились спреды по обязательствам таких стран, как, скажем, Испания. Здесь спреды сократились в разы. Мы видим, что американская экономика показывает неплохие сигналы и по потребительскому спросу, и по ВВП. И статистически мир, в принципе, показывает неплохой рост. Это почти 3% роста: больше – в развивающемся мире, меньше – в развитом. И заметно изменилась тональность всех разговоров. Вообще оценки экспертного сообщества, инвестиционного сообщества в целом циклические. Также как есть бизнес-циклы, так существуют и циклы экспертных оценок. Цикл начинается с фазы. Но в этот раз все иначе. Мы вступаем в полосу бескризисного развития. Эксперты забывают об истинных причинах кризиса, затем начинается паника среди инвесторов, которые начинают освобождаться от всех активов, и завершается этот цикл тем, что кризис закончился. И снова все всё забыли. Во-первых, не надо забывать. Во-вторых, кризис не закончился. И, наконец, в-третьих, эксперты не осознают, что это не кризис. Это смена экономической модели развития мира, его переход на несколько иные фундаментальные основания.
Следует отметить некоторые характерные черты новой экономической глобальной модели. Во-первых, это более низкие темпы мирового роста. Создаётся впечатление, что уже никогда темпы роста не будут такими, какими они были в первые 5 – 7 лет этого столетия.
Во-вторых, это сближение темпов роста развитых и развивающихся экономик и постепенное преодоление этих огромных дисбалансов в торговле и капиталопотоках, которые были прежде, когда во многом развитие мировой экономики основывалось на том, что происходил обмен положительного сальдо торгового баланса одних стран, которые имели низкие издержки и большой экспортный потенциал, на положительное сальдо капитального счета других стран, которые имели высокие рейтинги и славились надежностью финансовых рынков. Эти дисбалансы будут уменьшаться, и, следовательно, соотношение темпов роста мировой торговли и мирового экономического роста также будут меняться. Если для периода высоких темпов глобального роста было характерно, что мировая торговля развивалась гораздо быстрее, была основным драйвером (примерно в 2 раза темпы роста мировой торговли превышали мировой экономический рост), то сейчас происходит сближение этих темпов, и мы полагаем, что в дальнейшем эти темпы роста будут соразмерными. Что мировая торговля, что мировая экономика в целом будут развиваться примерно одинаковыми темпами, и, следовательно, рост мировой торговли не будет таким значимым драйвером, как это было прежде.
Следующим элементом является то, что в большей степени начали проявляться факторы декаплинга. И в ряде стран, особенно среди развивающихся рынков, большее значение приобретают такие факторы роста, как потребительской спрос и инвестиционный спрос внутри своих экономик, нежели чистый экспорт в иные страны. С другой стороны, для разных экономик становятся более значимыми не вывоз капитала и вывод индустриальных подразделений в развивающиеся экономики, а реиндустриализация и использование внутренних сбережений для внутренних накоплений.
Следующий, как нам кажется, немаловажный фактор – это более высокая волатильность. Все рынки сейчас испытывают и, с нашей точки зрения, продолжат испытывать более высокую волатильность. Это касается и товарных рынков, и цен на базовые биржевые товары, и фондовых индексов, и долгового рынка.
Важный момент – это исчерпанность фискальных и монетарных стимулов для экономического роста. В период с 2008 года по текущий год была экстремально мягкая монетарная политика большинства центральных банков развитых стран. Соответственно, возможность для какого-либо смягчения отсутствует. Наоборот, exit strategy – стратегия выхода из этих экстремальных обстоятельств – так или иначе будет реализована: у кого-то раньше, у кого-то позже. К примеру, для Федерального Резерва – раньше, для ЕЦБ и Банка Японии – позже.
Состояние бюджетов и долговой нагрузки у большинства экономик таково, что сильно использовать фискальные стимулы для экономического роста невозможно. Это означает, что приобретают большее значение качество институтов и эффективность тех стимулов, мотиваций для роста, которые создаются этими институтами. В этой ситуации перспективы экономического роста в мире выглядят неплохо, и эксперты на 2014 год прогнозируют 3,6 – 3,8 % роста мировой экономики. Но для России это означает дополнительный вызов, потому что, начиная с прошлого года, мы вошли в противофазу с мировым развитием. Нам не в первый раз бывать в противофазе, но сейчас мы именно в отрицательной противофазе. Мы бывали в противофазе, когда был низкий мировой рост и был высокий рост российской экономики, но мы впервые находимся в противофазе, когда мир будет демонстрировать темпы роста больше 3,5 %, а мы в лучшем случае – 2,5 %. Так будет в 2014, 2015 и возможно последующие годы. Это очень серьезный вызов, на который мы должны ответить. Нам кажется, что в области экономической политики цели должны заключаться в том, чтобы правильно уловить базовые характеристики новой экономической модели и приспособить эти характеристики для ответа на этот вызов.
Итак, с точки зрения обеспечения устойчивого развития в 2014 или 2015 году технически несложно реализовать ускорение экономического развития путем резкого смягчения денежной политики, тем более что в отличие от развитых экономик у нас имеются резервы. У нас практически бездефицитный бюджет и чрезвычайно низкая долговая нагрузка в 11 % от ВВП. Но это было бы временным решением, за которым последовала бы разбалансировка основных институциональных и структурных характеристик экономики, и, по всей видимости, этим методом пользоваться нельзя. Поэтому принципиальное решение – это меньшая зависимость от тех факторов нестабильности, которые находятся в глобальной экономике. Это, прежде всего, обеспечение роста на основе трансформации внутренних сбережений во внутренние инвестиции. Норма сбережений в российской экономике традиционно довольно высокая. Конечно, не такая высокая, как в Китае, но всё же достаточно высокая: порядка 30 % от ВВП. И основная наша проблема – это разрыв между нормой сбережения и нормой накопления. Норма сбережения – около 30 %, норма накопления – около 20 % от ВВП. В разные годы норма накопления составляла 20 %, 21 %, 22 %, то есть около 20 %. Эта разница в 10 % – так называемый гэп – и есть ресурс для развития. Эффективное использование этого гэпа и будет являться оценкой результативности экономической политики. Если национальные сбережения аккумулируются в капиталопотоки из страны во вне и закончатся вложением в иностранные активы, то это будет свидетельствовать о некачественной экономической политике внутри страны. То есть в этом случае для инвесторов и в целом предпринимательского сообщества не будут созданы те условия, которые им требуются, исходя из соотношения между риском и доходностью.
В последние годы мы всегда обеспечивали инвестиционный рост за счет того, что давали экстремально высокую норму возврата на капитал.
Именно поэтому, несмотря на то, что по итогам прошлого года у нас практически нулевой рост инвестиций в основной капитал, мы всё-таки в последнем квартале 2013 года добились того, что формально он положительный: 0,2 % роста. Но очевидно, что это в пределах статистической погрешности, поэтому можно сказать, что рост нулевой. В отличие от инвестиций в основной капитал в целом, инвестиции иностранных инвесторов в основной капитал российских компаний растут. В 2013 году был именно такой рост. С нашей точки зрения, это неустойчивый рост, потому что он основан на экстремально высокой норме возврата на капитал: порядка 30 %. 30 % возврата на капитал – это сигнал для инвесторов о том, что можно принять на себя следующие риски: «страновые» риски, валютные риски, рыночные риски, то есть те риски, которые сопряжены с инвестициями в российскую экономику. Сейчас это невозможно. Наша экономика при тех темпах роста, которые имеются сейчас и будут в обозримом будущем, не может давать такой возврат на капитал. Поэтому мы должны дать инвестору другое: снижение рисков с тем, чтобы он был готов инвестировать при норме возврата на капитал в 20 %, но при более приемлемых рисках. Это касается и иностранного, и внутреннего инвестора. Поэтому высокая норма накопления через снижение инвестиционных рисков – это магистральный пункт для того, чтобы развитие было устойчивым в условиях общей внешней нестабильности.
Второй очень важный фактор, как нам кажется, заключается в следующем. Проблемы российской экономики – это не проблемы спроса, а проблемы предложения. Спрос достаточно высок, и не нужно его искусственно «подстегивать». Мы имеем статистически не очень высокие показатели соотношения между денежной массой и денежной базой ВВП, но это вполне достаточный уровень для нынешнего спроса на деньги. И в этой ситуации стимулирование спроса через установление индикативных процентных ставок, например, для коммерческих банков или каким-то фискальным способом, увеличением государственных расходов могло бы нести риски пузырей некачественных активов, роста инфляции и иных элементов разбалансировки экономики. Это, наверное, совершенно не то, чего мы бы хотели добиться.
А расшивка факторов сдерживания предложения является принципиально важной для нас. Это и традиционные инфраструктурные проблемы: транспортные ограничители, энергетические ограничители. Создание условий легкого доступа бизнеса к транспортировке с низкими издержками и энергетике с умеренными издержками чрезвычайно важно. В этой связи необходимо вести работу по инфраструктурным проектам. Мы считаем, что очень важно, чтобы инфраструктурный проект оценивался по принципу «четырёх глаз». То есть инфраструктурный проект должен включать бюджетные инвестиции, инвестиции аффилированных с бюджетом структур таких, как Фонд Национального Благосостояния, капитал внутреннего частного инвестора и капитал глобального частного инвестора, который, рискуя своими средствами, обеспечивал бы тщательную экспертизу и оценку этих проектов. Мы уже добиваемся этого по таким крупным проектам, как центральная кольцевая автодорога и модернизация БАМа и Транссиба. К этому списку, конечно же, нужно добавить еще несколько такого рода проектов. Очень важно, чтобы все эти проекты были не политическими, а коммерчески значимыми. Окупаемость проекта – это свидетельство качества работы над ним.
С другой стороны, снятие этих ограничений – это работа с издержками. Это то, что начало делать Правительство. Очевидно, что эту работу чиновники начали делать «грубовато»: через замораживание на целый год тарифов по железнодорожным перевозкам, по электрическим сетям и по газоснабжению. Понятно, что это не является принципиальным решением, но шок, который должен коснуться не только естественных монополий, но и их потребителей и поставщиков, распространится по экономике. Это шок пересмотра нашего отношения к издержкам. Мы утратили систему управления издержками как на микроуровне компаний, так и на макроуровне: на уровне бизнеса, на уровне государственного управления. Это касается не только издержек на эти тарифы. Это касается издержек на заработную плату, на соотношение между темпами роста зарплаты и темпами роста производительности труда и т.д.
Шок 2014 года закончится. Правительство, конечно же, больше не будет продлевать процесс замораживания тарифов. Министерство экономического развития является сторонником долгосрочного пятилетнего тарифа, а точнее формулы тарифа, при которой все стороны процесса могли бы посчитать свои затраты, определить денежный поток. И стороны имели бы ответственность за результативность этого процесса. Это очень важно.
И, наконец, третья сторона этой экономики предложения – это предложение качественных институтов. В обществе есть достаточный монетарный спрос. Но в обществе также есть и спрос на качественные институты. Необходимо предложить эти институты. Необходимо предложить четкое контрактное право и гарантии его исполнения. Необходимо законодательно предложить эффективное регулирование государственно-частного партнерства и справедливое отношение сторон. Если сторона бюджета, сторона государства будет менять правила игры, то государство должно нести ответственность, в том числе, простую материальную ответственность, как у нас сейчас предусмотрено в законодательстве об инвестициях в жилищно-коммунальное хозяйство.
В целом всё ясно, о каких институтах идет речь и какого рода модернизации здесь необходимо добиться. Очень важно для обеспечения действенности механизма роста внутренних накоплений реализовать упорядочение финансовых рынков. Регулятор Банка России, который теперь является единым регулятором на финансовых рынках, добился здесь немалого в такой корректировке по улучшению качества работы банковской системы. Сейчас предстоит большая работа по негосударственным пенсионным фондам. Затем, мы думаем, необходимо будет добавить третий элемент: работу по страховым компаниям, которые также так или иначе должны пройти через эти процедуры санирования, оздоровления, селекции, отбора тех, кто действительно способен работать с деньгами граждан. Это будет формировать доверие в экономике. Доверие – это главный инструмент формирования длинных пассивов. Длинные пассивы – это результат не деятельности какого-то института, например, банка развития или пенсионного фонда, это результат того, что существует доверие к национальным финансовым институтам. Если мы этого добиваемся через оздоровление соответствующих сегментов финансовых рынков, значит, организованные сбережения и трансформация в накопление получают дополнительный импульс.
Чрезвычайно важно развитие малого и среднего бизнеса. Мы об этом много говорим, но, к сожалению, пока мало делаем. А то, что делаем, иногда делаем даже с отрицательным знаком. Как в прошлом году, когда была увеличена ставка по социальным страховым взносам, дабы увеличить пенсионные накопления, 300 тысяч индивидуальных предпринимателей закрыли свой бизнес. С точки зрения теории экономики всё было сделано правильно, но вот такая неудачная реализация правильной теории привела к отрицательным результатам, когда бизнес просто перестал работать открыто.
Для малого и среднего бизнеса этот вопрос решается гораздо легче, чем для крупного бизнеса. Издержки закрытия предприятия или перевода его из белого сектора в черный сектор невелики, поэтому малый бизнес легко делает такой выбор. А это категорически недопустимо потому, что именно малый и средний бизнес создают устойчивость. Посмотрите, что происходило в 2008 – 2009 гг. в Европе и в Америке. Национальные «чемпионы» оказались «чемпионами» и по крахам. Экономика не может держаться на национальных «чемпионах». Это привело к тому, что налогоплательщики начали спасать крупнейшие корпорации и банки. Но это совершенно не нужно для малого и среднего бизнеса. Сама система их множественности, гибкости и является элементом устойчивости. И чем выше доля малого и среднего бизнеса в валовом внутреннем продукте, в занятости, в доходах, тем при прочих равных условиях выше устойчивость экономики, выше её адаптивность, способность выдерживать шоки, в том числе и шоки, связанные с глобальной экономикой. Именно поэтому власть через систему гарантийных фондов, через систему доступа малого и среднего бизнеса, государственные заказы, муниципальные заказы и иные инструменты пытается дать ту финансовую возможность развития, которая сейчас во многом отсутствует.
Конечно, для устойчивого развития в неустойчивом нестабильном мире очень важно сохранение крепкой макроэкономической конструкции. И здесь нам очень важно поддерживать качество бюджетного процесса. Поэтому мы считаем, что возможность отказа от принятого в прошлом году так называемого «бюджетного правила» должна быть исключена. Значит, «бюджетное правило» должно действовать в том виде, в котором действует сейчас. У некоторых экспертов есть к нему претензии, не всем оно нравится. У некоторых экономистов имеются идеи, как его усовершенствовать, и в целом эти идеи носят конструктивный характер, но их стоит отложить на несколько лет. Потому что правило хорошо тем, что оно выполняется, нравится это нам или нет. Если мы решили, что это правило, то оно должно работать. Впоследствии через какое-то количество времени, «бюджетное правило», конечно же, можно корректировать. Необходимо учесть, что только очень осторожный подход к приросту бюджетных обязательств государства – это самый настоящий элемент стабильного развития.
Качество экономического роста, его устойчивость, его стабильность должны быть именно тем, над чем мы все должны работать. Не может быть размена стабильности на ускорение роста. Это, как нам кажется, твердое «золотое» правило. Стабильность и рост – это одно и то же. Устойчивость и развитие – это две стороны одной медали. Нельзя платить за ускоренное развитие потерей стабильности. Поэтому устойчивый долгосрочный экономический рост, основанный на качественных институтах, основанный на преодолении разрыва между нормой сбережения и нормой накопления за счет создания комфортной среды для инвестиций и предпринимательства, преодоление механизма роста издержек и снятие ограничений по предложению – вот это является, с нашей точки зрения, основной моделью эффективного государственного менеджмента в российской экономике. Власть, бизнес, общественность готовы ответить экспертно на эти вызовы, готовы ответить нормативно на эти вызовы. И теперь мы должны только постоянной практической работой этот ответ подтверждать.
"Экономика и социум" №1(10) 2014