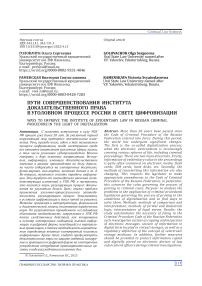Пути совершенствования института доказательственного права в уголовном процессе России в свете цифровизации
Автор: Головачук О.С., Раменская В.С.
Журнал: Правовое государство: теория и практика @pravgos
Рубрика: Уголовно-правовые науки
Статья в выпуске: 4 (74), 2023 года.
Бесплатный доступ
С момента вступления в силу УПК РФ прошло уже более 20 лет. За указанный период окружающий мир претерпел значительные изменения. Речь, прежде всего, идет о так называемом процессе цифровизации, когда электронная среда все активнее охватывает различные сферы жизни, в том числе уголовное судопроизводство. Можно говорить о двух основных направлениях. Во-первых, информация, имеющая доказательственное значение в рамках производства по делу, довольно часто содержится на электронных носителях: флэш-картах, сим-картах, жестких дисках и т. д. Во-вторых, меняются способы передачи информации. Это требует от законодателя внесения соответствующих изменений в УПК РФ, в частности, это касается норм, регулирующих процесс доказывания по уголовным делам.
Следственные действия, передача информации, информационно-телекоммуникационная сеть, электронный носитель информации, цифровизация, электронные сообщения
Короткий адрес: https://sciup.org/142239225
IDR: 142239225 | УДК: 343.141, | DOI: 10.33184/pravgos-2023.4.13
Текст научной статьи Пути совершенствования института доказательственного права в уголовном процессе России в свете цифровизации
В последние десятилетия результаты научно-технического прогресса настолько прочно вошли в нашу жизнь, что ее уже невозможно представить без оперативного доступа к информации, возможности мгновенно передавать сведения в любую часть Земли практически неограниченному числу людей, фиксировать все происходящее с помощью фото-, видео-, аудиотехники. При этом носители информации становятся все более компактными и удобными в использовании. Данные процессы стали возможны благодаря цифровизации.
Существуют два основных способа передачи информации: цифровой и аналоговый. В последнем случае информация передается непрерывно и так же должна восприниматься. Аналоговые сигналы раньше использовались во всех видах связи, но постепенно они вытесняются цифровыми, так как информация передается практически без искажений и требует минимальных затрат энергии для ее приема и передачи1.
Данные изменения носят глобальный характер и влияют на самые разные области деятельности человека, в том числе входящие в сферу правовой регламентации.
Не осталось в стороне и уголовное судопроизводство. Но если сравнивать его с гражданским и арбитражным процессами, то можно сделать вывод, что изменения происходят более плавно, даже осторожно. Причины кроются в том числе и в тех итоговых решениях, которые принимаются по результатам рассмотрения уголовных дел, в их влиянии на жизнь многих участников уголовного процесса. Тем не менее современные технологии передачи данных все больше проникают и в уголовное судопроизводство.
Влияние цифровизации на систему следственных действий
Для начала следует разобраться с терминологией. Многие авторы настаивают на использовании термина «цифровой» (в частности, в последние годы появился и активно развивается новый раздел криминалистики – криминалистическое исследование компьютерных средств и систем, активно обсуждаются вопросы цифровизации судебно-экспертной деятельности [1, с. 9]), но законодатель в различных нормативных актах оперирует категорией «электронный». Обратимся к закону «Об информации, информационных технологиях, защите информации»2, согласно ст. 2 которого под информацией следует понимать сведения (сообщения, данные) вне зависимости от формы их предоставления. В данной норме приведено определение электронного сообщения: информация, переданная или полученная пользователем информационно-телекоммуникационной сети, то есть технологической системы, предназначенной для передачи информации, доступ к которой осуществляется с использованием средств вычислительной техники. Нет сомнений, что информация при этом передается в форме цифрового кода, самый простой из которых – последовательно сменяемые «0» и «1», то есть, по сути, эта информация является цифровой. Тем не менее УПК РФ в ст. 474.1 использует термин «электронные документы», которые передаются в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. В ст. 189.1 и 278.1 упоминается возможность использования видео-конференц-связи, но через какие каналы будет осуществляться передача информации, в законе не сказано. Можно предположить, что речь идет об использовании цифровых способов передачи информации через Интернет. Поэтому в настоящей работе применительно к информации, ее форме и носителям наряду с термином «цифровой» будет использоваться термин «электронный».
Передача информации сопровождает все уголовное судопроизводство. Но особое значение она имеет в рамках процесса доказывания. Ведь именно в данном случае информация в самых разнообразных формах доводится до сведения одного участника другим участником. При этом процедура передачи сведений максимально формализована, особые требования предъявляются к их форме и участникам. Нет достоверных данных в пользу того, что законодатель в обозримом будущем готов будет изменить порядок доказывания при разбирательстве уголовных дел. Поэтому следует говорить об адаптации появившихся способов передачи данных под нормативно предъявляемые доказательственным правом требования.
Мы проанализируем несколько направлений, в рамках которых необходимо совершенствование действующего уголовно-процессуального законодательства, обусловленное использованием цифровых способов передачи информации. Прежде всего, хотелось бы обратиться к следственным действиям. Их перечень строго регламентирован законом и является закрытым, но при пристальном рассмотрении становится ясно, что он нуждается в корректировке.
Копирование и осмотр электронных сообщений
Общение в цифровом формате все более вытесняет иные способы передачи информации. Как же законодатель учитывает ука- занное обстоятельство при регулировании процедуры собирания необходимых для рассмотрения дела фактических данных?
В законе отсутствует следственное действие, которое бы позволяло получить, в том числе минуя носитель, принадлежащую конкретному лицу информацию из мессенджеров, электронных ящиков, социальных сетей. Изменения, внесенные законодателем в ст. 185 УПК РФ, не решили существующую проблему. Указанная статья была дополнена частью 7, в соответствии с которой следователь по решению суда может произвести осмотр и выемку электронных и иных передаваемых по сетям электросвязи сообщений при наличии достаточных оснований полагать, что в них содержатся сведения, имеющие значение для уголовного дела. При этом мы видим, что процедура такого осмотра и выемки не разработана, так как правила, изложенные в ч. 3–5 ст. 185 УПК РФ, не учитывают специфики электронных сообщений и каналов их передачи. Так, например, в ходатайстве следователя о наложении ареста на почтово-телеграфные отправления обязательно указываются данные лица, на чье имя поступают эти отправления (его фамилия, имя, отчество и адрес). Но при обмене сообщениями в сети Интернет далеко не всегда используются настоящие имена и фамилии, что не является препятствием для общения посредством мессенджеров. Соответственно, законодателю необходимо сформулировать иные признаки, которые позволят индивидуализировать субъекта, чьи электронные сообщения содержат информацию, имеющую значение для уголовного дела [2, с. 62]
Также п. 4 ч. 3 ст. 185 УПК РФ требует от следователя указать в своем ходатайстве наименование учреждения связи, на которое возлагается обязанность задерживать соответствующие почтово-телеграфные отправления. Но Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» не использует такого понятия. Соответственно, возникают вопросы: от кого следователь может получить интересующие его электронные сообщения с целью их копирования и осмотра? насколько корректно решение законодателя о включении нормы ч. 7 ст. 185 УПК РФ в статью, посвященную аресту, выемке и осмотру почтово-телеграфных отправлений?
В соответствии с ч. 1 ст. 185 УПК РФ на бандероли, посылки или другие почтово-телеграфные отправления либо телеграммы и радиограммы может быть наложен арест при наличии достаточных оснований полагать, что в них содержатся предметы, документы или сведения, имеющие значение для уголовного дела. При этом не понятно, что включает в себя понятие «другие почтово-телеграфные отправления», охватываются ли его содержанием электронные сообщения.
Так, п. 8 Правил оказания услуг почтовой связи, утвержденных приказом Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ от 17 апреля 2023 г. № 3823, среди почтовых отправлений упоминает отправления, пересылаемые в форме электронного документа, а в разделе VI содержатся положения о приеме и доставке (вручении) простых и заказных почтовых отправлений, пересылаемых в форме электронного документа. Но речь здесь идет только об отправлениях, пересылаемых с использованием информационной системы организации федеральной почтовой связи (п. 52). Таким образом, можно сделать вывод, что электронные и иные передаваемые по сетям электросвязи сообщения выходят за рамки предмета ст. 185 УПК РФ, так как к ним относятся сообщения, передаваемые по электронной почте, а также посредством мессенджеров (WhatsApp, Viber, Telegram и др.).
Учитывая изложенное, следует согласиться с теми учеными-процессуалистами, которые говорят о необходимости закрепления в УПК РФ самостоятельного следственного действия, направленного на копирование и осмотр электронных сообщений [3, с. 479–480].
Но это в полной мере не решит проблему взаимодействия правоохранительных органов с организаторами распространения электронной информации по сети Интернет, если последние находятся за пределами Российской Федерации. Как справедливо отмечают В.В. Важенин и Т.З. Имаков, «большинство протоколов и технологий сети Интернет разработаны в США. Корпорации по управлению доменными именами и IP-адресами (ICANN) созданы при участии американского правительства и находятся на территории США» [4, с. 21].
Электронные устройства как носители информации
Также в рамках исследуемой темы требует внимания вопрос об электронных устройствах как носителях информации и приобщении их в качестве доказательств. Законодателем уже предприняты определенные шаги в данном направлении. Так, в УПК РФ появилась ст. 164.1 «Особенности изъятия электронных носителей информации и копирования с них информации при производстве следственных действий». При этом законодатель не посчитал необходимым закрепить в тексте процессуального закона определение понятия «электронные носители информации». Поэтому на практике приходится использовать ГОСТ 2.051-2013 «Межгосударственный стандарт. Единая система конструкторской документации. Электронные документы. Общие положения»4, в п. 3.1.9 которого говорится, что электронный носитель – это материальный носитель, используемый для записи, хранения и воспроизведения информации с помощью средств вычислительной техники. Следует отметить расплывчатость приведенной формулировки, что обуславливает вариативность восприятия понятия «электронный носитель» [5, с. 117]. На практике это может привести к необоснованному отказу в отнесении того или иного устройства к электронным носителям информации и, как следствие, к несоблюдению установленных законом процедур, нарушению прав участников уголовного судопроизводства [6, с. 67]. Таким образом, полагаем, что ст. 5 УПК РФ, раскрывающую определение основных понятий, используемых в тексте уголовно-процессуального закона, следует дополнить пунктом 63, указав, что электронный носитель информации – это предмет, используемый для записи, постоянного или временного хранения электронной информации, имеющей значение для уголовного дела, воспроизведение которой невозможно без использования вычислительной техники.
Проблемы получения информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами
Сама норма, регламентирующая порядок производства данного следственного действия, появилась в законе в 2010 г., последние изменения и дополнения были внесены в нее в 2013 г. Очевидно, что с тех пор возможности цифровых технологий, электронных устройств и степень их распространенности среди населения шагнули далеко вперед. Многие авторы отмечают ряд пробелов в действующей норме: не регламентированы основания производства следственного действия, не определен процессуальный статус лиц, в отношении которых оно может быть произведено; императивность правила о признании вещественным доказательством полученной в ходе указанного действия информации также вызывает сомнения [7, с. 82]. Кроме того, не урегулирован порядок взаимодействия следственных органов и операторов связи, не установлена ответственность за нарушение обязательств операторов связи в рамках выполнения судебного решения на производство следственного действия и др. [8, с. 55].
Также потенциально важным видится получение информации как о факте соединения между абонентами (абонентскими устройствами), объеме передаваемых сведений, так и о том, какие именно сведения были переданы, в каких программах состоялась передача. Тем более что с принятием ряда федеральных законов5 предпосылки для этого в виде обязательного хранения операторами связи передаваемых сведений уже созданы.
Процессуальные аспекты использования цифровых технологий в процессе доказывания по уголовным делам
Как уже было отмечено, цифровые технологии позволяют оперативно собирать и передавать информацию в самых разных форматах. При этом в уголовно-процессуальном законе не регламентированы виды технических средств, подлежащих применению для фиксации хода и результатов следственного действия. Статья 164 УПК РФ содержит на этот счет лишь самые общие правила. Поэтому представители правоохранительных органов используют личные технические средства. Прежде всего, речь идет о смартфонах. Конечно, это удобно: оперативная фиксация, нужные сведения всегда под рукой. Оснований сомневаться в добросовестности сотрудников правоохранительных органов, прокуратуры и других ведомств нет. Поэтому в настоящей работе даже не обсуждается возможность умышленной передачи сведений третьим лицам. Но есть еще и техническая возможность неправомерного и неконтролируемого доступа к информации, хранящейся на устройствах сотрудников, имеющих доступ в Интернет. Кроме утечки есть вероятность неправомерного получения данных, хранящихся на личных устройствах, подключенных к Сети, их изменения и неконтролируемого владельцем возвращения фото, аудио или иного файла на устройство. В этой связи предлагается более детально регламентировать порядок хранения и передачи информации, прежде всего, при расследовании уголовных дел и рассмотрении некоторых из них в закрытом судебном разбирательстве. Необходимо нормативно запретить использование личных устройств сотрудников, подключенных к Интернету, либо предусмотреть дополнительные механизмы защиты от неправомерного проникновения к информации, хранящейся на них. Важно не просто установить указанные ограничения, но и проконтролировать их соблюдение, ввести санкции за их игнорирование. Возможно, данное предложение на первый взгляд может показаться излишним, поскольку подобные случаи пока не были описаны в открытой печати. Но необходимо действовать на опережение, ведь последствия описанных неправомерных действий могут быть фатальны- ми для разбирательства уголовных дел при действующем принципе презумпции невиновности, особенно если информация не была продублирована в первоначальном виде на устройствах, не подключенных к Интернету, или на бумажном носителе.
Уголовно-процессуальный порядок предоставления информации с электронных носителей участниками уголовного судопроизводства
Хотелось бы обратить внимание на отсутствие правового обеспечения тех случаев, когда участники процесса предоставляют лицам, ведущим производство по уголовному делу, цифровую информацию на личных устройствах. В частности, такая необходимость может возникнуть при производстве допроса или участии в иных следственных действиях. УПК РФ предусматривает в указанных случаях возможность производства выемки. Но если информация находится в цифровом виде, то могут возникнуть вопросы в связи с ее копированием на материальный носитель и приобщением к уголовному делу: кто именно, с помощью каких устройств осуществит копирование, кто должен предоставить носитель для переноса информации и др. Эти вопросы также требуют нормативных ответов. Важно отметить, что ст. 164.1 УПК РФ регламентирует, прежде всего, процедуру изъятия электронного носителя информации. Но необходимость изъятия сведений, содержащихся в виртуальных цифровых хранилищах, только возрастает. Зайти в такие хранилища можно с любого электронного устройства при введении логина и пароля. Очевидно, что изъятия конкретного устройства, на котором хранится информация, в данном случае не требуется. В этой связи предлагается включить в УПК РФ статью 183.1, наделив субъекта, предоставляющего сведения в цифровом виде, правом выбирать: либо скопировать важную для разбирательства дела информацию самостоятельно на свой носитель с последующей его передачей для хранения при уголовном деле и компенсацией затрат, либо обратиться к соответствующим специалистам, работникам правоохранительных органов. В случае принятия данного предложения необходимо создать соответствующие подразделения в правоохранительных органах и судах. На них могут быть возложены и иные функции. Например, производство экспертиз носителей цифровой информации или помощь в их назначении, осмотре указанных предметов.
При этом использование цифровой информации в процессе доказывания по уголовному делу может вестись и в других направлениях. Для этого необходимо нормативно закрепить соответствующие дополнения к уголовно-процессуальной форме, расширив пределы допустимости использования цифровых источников фактических данных, изменить систему принципов уголовного процесса, расширить перечень не только следственных, но и судебных действий [9, с. 55].
Заключение
Подводя итоги проведенного исследования, можно сделать следующие выводы:
-
1) в тексте УПК РФ (ст. 5) необходимо закрепить понятие «электронный носитель информации»;
-
2) следует предусмотреть в действующем уголовно-процессуальном законодательстве самостоятельное следственное действие – копирование и осмотр электронных сообщений, – исключив ч. 7 ст. 185 УПК РФ;
-
3) полагаем возможным расширить перечень сведений, которые могут быть получены в рамках производства следственного действия, предусмотренного ст. 186. 1 УПК РФ;
-
4) необходимопредпринятьповышенные меры безопасности, обеспечивающие сохранность и контроль за информацией, хранящейся в цифровой форме на личных устройствах сотрудников правоохранительных органов. В этой связи предлагается разработать и установить на личных устройствах сотрудников программы, обеспечивающие сохранность информации и запрещающие неправомерный доступ к ней с других устройств;
-
5) необходимо дополнить УПК РФ статьей 183.1, в которой закрепить право участника уголовного судопроизводства, предоставляющего сведения в цифровом виде, выбирать: либо скопировать имеющую значение для дела информацию самостоятельно на свой носитель с последующей его передачей для хранения при уголовном деле и компенсацией затрат, либо обратиться к соответствующим специалистам, работникам правоохранительных органов.
Список литературы Пути совершенствования института доказательственного права в уголовном процессе России в свете цифровизации
- Россинская Е.Р. Учение о цифровизации судебно-экспертной деятельности и проблемы судебно-экспертной дидактики / Е.Р. Россинская // Правовое государство: теория и практика. - 2020. - № 4, ч. 1. - С. 88-101.
- Супрун С.В. О противоречивом характере новеллы в законодательном регулировании следственного действия "наложение ареста на почтово-телеграфные отправления" / С.В. Супрун, В.С. Черкасов // Вестник Омской юридической академии. - 2017. - Т. 14, № 1. - С. 59-64. EDN: XWZCHF
- Гарипов Т.И. Вопросы процессуальной регламентации копирования и осмотра электронных сообщений в уголовном судопроизводстве / Т.И. Гарипов // Вестник Казанского юридического институт МВД России. - 2019. - № 4 (38). - С. 475-481.
- Важенин В.В. Проблемы противодействия экстремизму в сети Интернет / В.В. Важенин, Т.З. Имаков // Преступность в сфере информационных и телекоммуникационных технологий: проблемы предупреждения, раскрытия и расследования преступлений. - 2015. - № 1. - С. 19-26. EDN: VRODGD
- Количенко А.А. Электронные носители информации как средство получения электронных доказательств в уголовном процессе / А.А. Количенко // Вестник Казанского юридического институт МВД России. - 2022. - № 1 (47). - С. 114-121.
- Григорьев В.Н. Об электронных носителях информации в уголовном судопроизводстве / В.Н. Григорьев, О.А. Максимов // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. - 2019. - № 3. - С. 65-71. EDN: WKOEYA
- Сибагатуллин Ф.Ф., Латыпов В.С. И снова к вопросу о получении информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами / Ф.Ф. Сибагатуллин, В.С. Латыпов // Общество, право, государственность: ретроспектива и перспектива. - 2021. - № 2. - С. 78-83. EDN: JLKGIN
- Сандрин И.А. Взаимодействие органов предварительного следствия и операторов связи при расследовании дистанционных мошенничеств / И.А. Сандрин, В.А. Мещеряков // Вестник Краснодарского университета МВД России. - 2022. - № 3 (57). - С. 51-56.
- Зайцев О.А. Особенности использования электронной информации в качестве доказательств по уголовному делу: сравнительно-правовой анализ зарубежного законодательства / О.А. Зайцев // Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения. - 2019. - № 4. - С. 42-57. EDN: KQZZXP