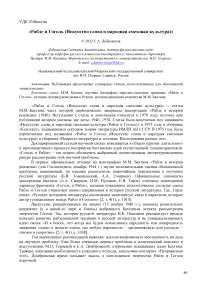Рабле и Гоголь (искусство слова и народная смеховая культура)
Автор: Дубровская С.А.
Журнал: Бахтинский вестник @bakhtiniada
Рубрика: Материалы к "Бахтинской энциклопедии"
Статья в выпуске: 1 (7), 2022 года.
Бесплатный доступ
Публикация представляет словарную статью, подготовленную для «Бахтинской энциклопедии».
М.м. бахтин, научная биография, народно-смеховая традиция, "рабле и гоголь", история литературоведения в России, история рецепции творчества м.м. бахтина
Короткий адрес: https://sciup.org/147248300
IDR: 147248300 | УДК: 030Бахтин
Текст научной статьи Рабле и Гоголь (искусство слова и народная смеховая культура)
« Рабле и Гоголь (Искусство слова и народная смеховая культура) » – статья М.М. Бахтина, часть которой первоначально завершала диссертацию « Рабле в истории реализма » (1940). Вступление к статье и дополнения относятся к 1970 году, поэтому при публикации автором указаны две даты: 1940, 1970. Статья была напечатана под названием « Искусство слова и народная смеховая культура (Рабле и Гоголь) » в 1973 году в сборнике « Контекст », издававшемся сектором теории литературы ИМЛИ АН СССР. В 1975 году была перепечатана под названием « Рабле и Гоголь (Искусство слова и народная смеховая культура) » в сборнике « Вопросы литературы и эстетики. Исследования разных лет ».
Декларированный статьей научный сюжет вписывается в общую картину длительного и противоречивого процесса восприятия бахтинских идей отечественной гуманитаристикой. « Гоголь и Рабле » – так можно обозначить выбранный отечественным литературоведением ракурс рассмотрения этой научной проблемы.
В первых официальных отзывах на монографию М.М. Бахтина « Рабле в истории реализма » ( для Гослитиздата, декабрь 1944 г.) звучат положительные оценки обозначенной проблемы, намечающей, по мнению рецензентов, широчайшие перспективы в изучении русской литературы (Б.В. Томашевский, А.А. Смирнов). Официальные оппоненты диссертации Бахтина (А.А. Смирнов, И.М. Нусинов, Е.В. Тарле) отмечали новаторский характер фрагмента « Гоголь и Рабле », называя показанное типологическое сходство смеха Рабле и Гоголя открытием нового направления в истории русской литературы. Так, Тарле писал: « Русских историков литературы несомненно заинтересует связь и параллели, которые автор устанавливает между Раблэ и Гоголем » [2, т. 4(1), с. 1015].
Дискуссия, развернувшаяся на защите (15 ноября 1946 г.), показала решительное неприятие (а в какой-то мере и боязнь) выбранного Бахтиным аспекта рассмотрения творчества Гоголя. Так, историк русской литературы Н.К. Пиксанов рекомендует прежде показать развитие раблезианской традиции в русской литературе и не универсализировать идею смеха: « И я боюсь, что когда мы будем осмысливать народность или ненародность движения только в аспекте смеха, мы любую народность – средневековую или русскую – снизим и укоротим » [2, т. 4(1), с. 1038].
Тон высказанных рекомендаций выявляет идеологизированную заостренность взгляда на научную проблему. Еще более очевиден перевод проблемы в политический контекст в выступлениях М.П. Теряевой и Е.А. Домбровской, откровенно искажавших идею Бахтина. Теряева, доказывая необходимость классового подхода, запальчиво повторяет « Неправильно это! », Домбровская прямо называет мысль о соположении творчества Рабле и Гоголя порочной.
В ответе Бахтин, не вступая в прямую полемику, объясняет свое видение проблемы, настаивая на важности обращения к ранее не учтенным элементам влиявшей на Гоголя смеховой традиции [2, т. 4(1), с. 1058].
Идеологический аспект спора, прозвучавший во время защиты, нашел свое продолжение в известной истории с рассмотрением диссертации в ВАКе в 1947–1952 гг. В опубликованной в газете « Культура и жизнь » заметке В.Н. Николаева « Преодолеть отставание в разработке актуальных проблем литературоведения » [с м. подробнее: 5], критикующей, по свидетельству Е.М. Евниной, работу руководства ИМЛИ АН СССР, автор прямо называет диссертацию Бахтина « фрейдистским », « псевдонаучным трудом », а работу Ученого совета примером « безответственного, антигосударственного отношения к присуждению ученых степеней » [7, с. 117].
Диссертация М.М. Бахтина не случайно была выбрана автором заметки в качестве объекта критики: защита Бахтина, по свидетельству современников, имела определенный резонанс в московских научных кругах. Так, фигура Теряевой, выступающей во время защиты Бахтина, появляется на страницах « духовного завещания » Л.Е. Пинского « Парафразы и памятования » (1979) [20, c.453], а образ самого соискателя приобретает в одном из пассажей современников черты фольклорного героя [19, c. 117].
Примечательно в этой связи впервые опубликованное В.И. Лаптуном письмо Г.С. Петрова к М.М. Бахтину (начало апреля 1948 года), фиксирующее спокойное настроение комиссии по отношению к бахтинской диссертации: « Есть надежда, что просьба о присвоении степени доктора будет удовлетворена » [12, № 3, с. 182]. Однако, как известно, сложившаяся ситуация ставила под сомнение присуждение ученой степени вообще. Борьба с космополитизмом и низкопоклонством перед Западом сделала сюжет « Гоголь и Рабле » политически криминальным. Для А.В. Топчиева и А.М. Самарина очевидна крамольность сопоставления Гоголя и Рабле, они не рассматривают проблему как научную. Так, Топчиев прямо предлагает диссертацию « взять на контроль в связи с космополитизмом, проявленным в работе: Гоголь подается как подражатель <…> Хорошо было бы дать на контроль и, может быть, опубликовать замечания, a затем уже решить вопрос о присуждении степени кандидата » [2, т. 4(1), с. 1093].
Результатом высказанных замечаний стало исключение Бахтиным из диссертации фрагмента « Рабле и Гоголь », что, наряду с другими поправками, сделало возможным присуждение ему степени кандидата филологических наук в 1952 г.
Новый отрезок в истории сюжета « Гоголь и Рабле » приходится на конец 1950-х – начало 60-х гг. и связан с ситуацией « возвращения Бахтина » в отечественную гуманитарную науку, случившееся, как известно, благодаря усилиям С.Г. Бочарова, Г.Д. Гачева, В.В. Кожинова, Л.Е. Пинского, В.Н. Турбина и др. [3; 8].
Во внутренних рецензиях, сопровождающих издание книги о Рабле, сюжет получает дальнейшее развитие. Так, Л.Е. Пинский, разделяющий мнение Бахтина об « освещающем значении Рабле » [2, т. 4(1), с. 17], актуализирует гоголевский сюжет, признавая органичность традиции гротескного реализма для Гоголя. Гоголевская составляющая раблезианской традиции представляется Пинскому настолько важной, что он считает необходимым напомнить о ней в рецензии на рукопись, в которой этот фрагмент отсутствует: «…и зучающего русскую литературу, – подчеркивает Пинский, – заинтересуют страницы, посвященные связи Гоголя с гротескным реализмом (к сожалению, они отсутствуют в настоящей редакции работы, но они имелись в первоначальной, хранящейся в архиве Института мировой литературы) [21]. При публикации рецензии на книгу Бахтина в « Вопросах литературы » Пинский « снял » реплику о гоголевских страницах [22].
В ответ на полученную рецензию Л.Е. Пинского Бахтин в письме к нему (21 февраля 1963 г.) сообщает о своем намерении не только восстановить, но и расширить гоголевские страницы, а также « коснуться элементов карнавальной культуры у Пушкина » [2, т. 4(2), с. 654]. Можно предположить, что Бахтин планировал говорить о судьбах карнавальной культуры в русской литературе, возможно, в русле идей четвертой главы « Проблем поэтики
Достоевского ». Как известно, планы остались нереализованными, но гоголевские страницы в рукописи монографии были восстановлены. В редакционном отзыве, написанном А.Г. Соловьевым 8–11 ноября 1964 г. [2, т. 4(2), с. 667–676], прозвучало выразительное размышление о раблезианском « следе » в творчестве Гоголя. Рецензент видел проявление карнавальной традиции в « Вечерах на хуторе близ Диканьки » и « Миргороде », но считал примеры из « Тараса Бульбы » и « Мертвых душ » [2, т. 4(2), с. 672–673] формальными, не имеющими оснований.
Эта тема опосредовано возникает три года спустя в статье В.В. Кожинова « К методологии истории русской литературы (О реализме 30-х годов XIX века), опубликованной в журнале « Вопросы литературы ». Кожинов фактически вводит в научный оборот бахтинский сюжет « Гоголь и Рабле », говоря о присутствии в рукописи диссертации М.М. Бахтина соответствующей проблемы [9, с. 61]. Представленная в статье Кожинова бахтинская концепция гоголевского смеха, выпадающая из традиционного (прежде всего « классового ») истолкования поэмы « Мертвые души », инициировала выступления исследователей, в корне не согласных с предложенным прочтением. В последнем номере « Вопросов литературы » за 1968 год в рубрике « Трибуна литератора » журнал публикует статьи А. Дементьева « Сомнительная методология » [4] и Д. Николаева « Сатирическое отрицание и отрицание сатиры » [17].
Полемика с Кожиновым и Бахтиным актуализировалась Николаевым в 1984 году во введении к монографии « Сатира Гоголя », тринадцать (из шестнадцати) страниц которого посвящено рассмотрению « природы карнавального смеха и его соотношению со смехом сатирическим » [18, c.7]. Признавая несомненную заслугу идей М.М. Бахтина, заметно ожививших, по его мнению, литературоведение последних десятилетий, Николаев подробно анализирует статью « Рабле и Гоголь ». Исходный посыл полемики – « почему же М.М. Бахтин объявил смех Гоголя не сатирическим? » [18, с. 18] – заостряет сущностную сторону проблемы. М.М. Бахтин, пишущий о гоголевском смехе, имеет в виду существование двух типов сатиры – сатиры смеховой и сатиры серьезной. Для Николаева же существует единый сатирический смех и поэтому, стремясь доказать неправомерность бахтинского понимания значения слова, полемизируя с ученым, он фактически подтверждает его мысль о « смеховой сатире » Гоголя: « Сатирический смех – тоже одновременно и отрицает и утверждает » [18, с. 9].
Полемические отклики на статью В.В. Кожинова прозвучали в 1972 году в монографии Елистратовой А.А. « Гоголь и проблемы западно-европейского романа » [6]. Полемизируя с Кожиновым, а фактически с Бахтиным, автор приводит все тот же набор аргументов. Как и Д.П. Николаев, А.А. Елистратова имеет в виду не типологическое сходство (о котором, вслед за Бахтиным, говорит Кожинов), а социально-исторический и литературный контекст конкретной эпохи, влияющий на автора, что до определенной степени оправдано. Здесь и содержатся различия в позициях исследователя, занимающегося частной историколитературной проблемой, и автором, сопоставляющим глобальные явления всемирного литературного процесса в пространстве бахтинского « большого времени ».
С публикацией статьи « Искусство слова и народная смеховая традиция (Рабле и Гоголь) » в 1973 г. начинается качественно новый этап в осмыслении бахтинской концепции смеха. Появление статьи в сборнике, издававшемся сектором теории литературы ИМЛИ АН СССР, придавало ей особый методологический статус. Появившаяся в окружении работ М.Б. Храпченко, Ю.Я. Барабаша, А.Ф. Лосева, Я.Е. Эльсберг и др. статья Бахтина приобретала характер официально признанной теории.
Один из первых откликов принадлежит Ю.М. Лотману. В работе « Гоголь и соотнесение « смеховой культуры » с комическим и серьезным в русской национальной традиции » [13] и в совместной с Б.А. Успенским рецензией на книгу Д.С. Лихачева и А.М. Панченко « Смеховой мир » Древней Руси [14] Лотман, разделяя взгляд М.М. Бахтина на недопустимость одностороннего сведения смеха Гоголя к сатире, считал необходимым дополнить комплекс отношения Гоголя к смеху, рассматривая творчество Гоголя в контексте православной традиции.
В 1976 году на страницах « Литературного обозрения » были опубликованы рецензии С.С. Аверинцева и Г.М. Фридлендера на сборник М.М. Бахтина « Вопросы литературы и эстетики. Исследования разных лет ».
Аверинцев в рецензии-некрологе « Личность и талант ученого », размышляя о свободе как сущности Бахтина-исследователя, задается вопросом: « Не отсюда ли проистекает его неприязнь к сатире, с подкупающей открытостью и прямотой выраженная хотя бы в статье « Рабле и Гоголь » <…>? Однозначно отрицающий, умерщвляющий без “воскрешения” сатирический смех есть для восприятия Бахтина нечто скаредное, чему не хватает самозабвения, щедрости жизни; в укор сатирическому смеху выясняется суть карнавального смеха – Гераклитова огня, расплавляющего все грани » [1, с. 60]. Исследователь, не знающий бахтинской статьи « Сатира » почувствовал, в какой-то мере « угадал » идею Бахтина о разных типах смеха и сатиры. Однако эта мысль не получила развитие.
Отчасти совпадая с Аверинцевым в общей оценке концепции гоголевского смеха, Фридлендер дает развернутый комментарий идее карнавальной природы смехового слова Гоголя, вступает в полемику с Бахтиным. « Вряд ли кто-нибудь согласится с мнением исследователя, – подчеркивает Фридлендер, – что смех не только у молодого, но и у зрелого Гоголя « несовместим со смехом сатирика »; это полемическое утверждение автора едва ли может быть принято также и для Рабле, хотя оно составляет краеугольный камень развитой им в книге о последнем концепции средневекового и ренессансного смеха. <…> Не убеждает и проводимая параллель между странствиями Чичикова и « веселым (карнавальным) хождением по преисподней » [23, с. 64].
Таким образом, статья « Рабле и Гоголь » воспринимается как фрагмент, как « механическое » наложение готовой теории на художественную практику Гоголя. Отметим, что здесь, как и в случае с выступлениями А. Дементьева, Д.П. Николаева, А.А. Елистратовой, корень расхождения лежит в незнакомстве исследователей с бахтинским пониманием сатиры, которое стало возможным только в 1995 г. после публикации написанной в 1940 г. для « Литературной энциклопедии » статьи « Сатира » [2, т. 5, с. 11–38].
Стремлением « уточнить » некоторые положения бахтинского понимания карнавала и смеха продиктованы выступления Ю.В. Манна. Свою монографию « Поэтика Гоголя » литературовед открывает главой « Гоголь и карнавальное начало », прямо подчеркивая – « постановка этой проблемы может послужить ключом для вхождения в поэтический мир Гоголя » [16, с. 7]. Дискуссия развивается в рамках освоения бахтинского наследия. Последовательно выделяя и анализируя элементы карнавализации у Гоголя, литературовед прямо выходит на проблему гоголевского смеха и его интерпретации Бахтиным: « Значит ли это, что гоголевское творчество всецело наследует карнавальную традицию? » [16, с. 13]. Однако в последующих своих размышлениях Манн сводит смех к карнавализации и ведет полемику по принципу детализации бахтинской концепции карнавала. Что по сути « снимает » декларируемое несогласие и приводит к подтверждению бахтинской идеи в общем выводе главы. К проблеме карнавала, карнавального смеха Манн вернулся в юбилейный год в статье « Карнавал и его окрестности ». Обозначая « исходный пункт » своих размышлений, литературовед характеризует бахтинскую теорию комического как « во многом определившую современное понимание этой проблемы в отечественном, а частично и в зарубежном литературоведении » [15, с. 154]. На волне « бахтинского бума » Ю. Манн с удовлетворением отмечает изменившуюся ситуацию отношения к идеям Бахтину: « Одна из заслуг теории Бахтина, – подчеркивает Манн, – состоит в оправдании той области смешного, которая носит название грубой комики », той сферы, « которая у Бахтина носит наименование сферы телесного низа » [15, с. 154].
Всем ходом своих размышлений, дополняющих, а точнее – корректирующих бахтинскую концепцию, Ю. Манн показывает возможность ее использования в качестве инструмента современного гоголеведения.
Примером осмысления и освоения бахтинской концепции на рубеже 1970–1980-х гг. стала монография В.Ш. Кривоноса «Проблема читателя в творчестве Н.В. Гоголя». Ставя перед собой задачу «осознать существо гоголевского смеха в связи с проблемой читателя» [10, с. 2], Кривонос начинает свои размышления с цитирования статьи «Рабле и Гоголь», с одной стороны, подчеркивая дискуссионность обозначенной проблемы, с другой – самой логикой научного повествования демонстрируя расширение горизонта, возможность свежего взгляда на гоголевское творчество. Органичность обращения В.Ш. Кривоноса к идеям М.М. Бахтина в научном пространстве монографий фиксирует тот перелом, который произошел в отечественном литературоведческом сознании конца 1970-х – начала 1980-х гг.
Вторая половина 1980-х – начало 1990-х гг. – новый этап в осмыслении идей М.М. Бахтина отечественным литературоведением. Эпоха советских дискуссий вокруг Бахтина завершается признанием. Более того отсутствие внимания к бахтинской концепции при интерпретации теорий комического не позволяет провести анализ с достаточной степенью глубины. Для ведущих историков литературы М.М. Бахтин – фигура знаковая и авторитетная, классик, создатель новых подходов, опора на которые дает возможность « прочитать » многие сюжеты русской литературы, « увидеть » общие закономерности. В этот период делается попытка поместить М.М. Бахтина в центр гуманитарного мышления, что связано с изданием комплекса философско-эстетических работ ученого. Работа « К философии поступка », сборник « Эстетика словесного творчества » (1986) позволяют говорить о Бахтине-философе, мыслителе, для которого литературоведение было лишь одной из сфер приложения его « методологии гуманитарных наук ».
Сюжет « Гоголь и Рабле » получает новое развитие в связи с дальнейшим обращением к этой стороне наследия Бахтина в работах отечественных и зарубежных исследователей середины 1990-х – начала 2000-х гг.
-
1. Аверинцев С. С. Личность и талант ученого // Литературное обозрение. 1976. № 10. С. 58–61.
-
2. Бахтин М.М. Собрание сочинений: В 7 т. Т. 1–6. М.: Русские словари; Языки славянских культур, 1996–2012.
-
3. Бочаров С.Г. События бытия: О М.М. Бахтине // М.М. Бахтин: pro et contra. СПб.: РХГИ, 2001. Т. II. С. 277–294.
-
4. Дементьев А. Сомнительная методология // Вопросы литературы. 1968. № 12. С. 69–90.
-
5. Дубровская С.А. «Культура и жизнь» // Михаил Михайлович Бахтин: личность и наследие: монография. Саранск: Изд-во Мордов. ун-та, 2020. С. 166–168.
-
6. Елистратова А.А. Гоголь и проблемы западно-европейского романа. М.: АН СССР. Наука. 1972. 304 с.
-
7. Из воспоминаний Е.М. Евниной // Диалог. Карнавал. Хронотоп. 1993. № 2–3. С. 114–117.
-
8. Кожинов В.В. «Как пишут труды, или Происхождение несозданного авантюрного романа» (Вадим Кожинов рассказывает о судьбе и личности М.М. Бахтина) // Диалог. Карнавал. Хронотоп. 1992. № 1. С. 109–122.
-
9. Кожинов В.В. К методологии истории русской литературы (О реализме 30-х годов XIX века) // Вопросы литературы. 1968. № 5. С. 60–82.
-
10. Кривонос В.Ш. Проблема читателя в творчестве Гоголя. Воронеж: Изд-во Воронежского унта, 1981. 168 с.
-
11. Кривонос В.Ш. «Мертвые души» Гоголя и становление новой русской прозы. Проблемы повествования. Воронеж: Изд-во Воронеж. ун-та, 1985. 158 с.
-
12. Лаптун В. И. «Располагайте мною по-дружески…» (о годах дружбы М.М. Бахтина с Г.С. Петровым) // Странник. 2014. № 2. С. 187–193. № 3. С. 180–185.
-
13. Лотман Ю.М. Гоголь и соотнесение «смеховой культуры» с комическим и серьезным в русской национальной традиции // Материалы Всесоюзного симпозиума по вторичным моделирующим системам. I(5).Тарту, 1974. С. 131–33.
-
14. Лотман Ю. М., Успенский Б. А. Новые аспекты изучения культуры Древней Руси // Вопросы литературы. 1977. № 3. С. 148–167.
-
15. Манн Ю.В . Карнавал и его окрестности // Вопросы литературы. 1995. № 1. С. 154–182.
-
16. Манн Ю. В. Поэтика Гоголя. М.: Худож. лит., 1978. 398 с.
-
17. Николаев Д. П. Сатирическое отрицание и отрицание сатиры // Вопросы литературы. 1968. № 12. С. 91–110.
-
18. Николаев Д.П. Сатира Гоголя. М.: Худож. лит., 1984. 367 с.
-
19. Паньков Н.А. Вопросы биографии и научного творчества М.М. Бахтина. М.: Изд-во Моск. ун-та, 2009. 720 с.
-
20. Пинский Л.Е. Минимы / сост. и примеч. Е.М. Лысенко, Е.Л. Пинской, Л.Д. Мазур-Пинской. СПб.: Изд-во Ивана Лимбаха, 2007. 552 с.
-
21. Пинский Л.Е. Отзыв о книге М.М. Бахтина «Творчество Рабле и проблемы народной культуры средневековья и Ренессанса»» // М.М. Бахтин: pro et contra. СПб.: РХГИ, 2001. Т. I. С. 391– 397.
-
22. Пинский Л.Г . Рабле в новом освещении // Вопросы литературы. 1966. № 6. С. 200–206.
-
23. Фридлендер Г. Реальное содержание поиска // Литературное обозрение. 1976. № 10. С. 61–
«Rabelais and Gogol
(The Art of Discourse and the Popular Culture of Laughter)»
Svetlana A. Dubrovskaya, Doctor of Philological Sciences, Professor of the Chair of Russian as a Foreign Language, Deputy Director of the M.M. Bakhtin Center at the Mordovia State University.
N.P. Ogarev National Research Mordovia State University. Saransk, Russia
Annotation. The publication presents a dictionary article prepared for the Bakhtin Encyclopedia.
-
1. Averincev S. S. Lichnost' i talant uchenogo // Literaturnoe obozrenie. 1976. № 10. S. 58–61.
-
2. Bahtin M.M. Sobranie sochinenij: V 7 t. T. 1–6. M.: Russkie slovari; Yazyki slavyanskih kul'tur, 1996–2012.
-
3. Bocharov S.G. Sobytiya bytiya: O M.M. Bahtine // M.M. Bahtin: pro et contra. SPb.: RHGI, 2001. T. II. S. 277–294.
-
4. Dement'ev A. Somnitel'naya metodologiya // Voprosy literatury. 1968. № 12. S. 69–90.
-
5. Dubrovskaya S.A. «Kul'tura i zhizn'» // Mihail Mihajlovich Bahtin: lichnost' i nasledie: monografiya. Saransk: Izd-vo Mordov. un-ta, 2020. S. 166–168.
-
6. Elistratova A.A. Gogol' i problemy zapadno-evropejskogo romana. M.: AN SSSR. Nauka. 1972.
-
7. Iz vospominanij E.M. Evninoj // Dialog. Karnaval. Hronotop. 1993. № 2–3. S. 114–117.
-
8. Kozhinov V.V. «Kak pishut trudy, ili Proiskhozhdenie nesozdannogo avantyurnogo romana» (Vadim Kozhinov rasskazyvaet o sud'be i lichnosti M.M. Bahtina) // Dialog. Karnaval. Hronotop. 1992. № 1. S. 109–122.
-
9. Kozhinov V.V. K metodologii istorii russkoj literatury (O realizme 30-h godov XIX veka) // Voprosy literatury. 1968. № 5. S. 60–82.
-
10. Krivonos V.Sh. Problema chitatelya v tvorchestve Gogolya. Voronezh: Izd-vo Voronezhskogo unta, 1981. 168 s.
-
11. Krivonos V.Sh. «Mertvye dushi» Gogolya i stanovlenie novoj russkoj prozy. Problemy povestvovaniya. Voronezh: Izd-vo Voronezh. un-ta, 1985. 158 s.
-
12. Laptun V. I. «Raspolagajte mnoyu po-druzheski…» (o godah druzhby M.M. Bahtina s G.S.
-
13. Lotman Yu.M. Gogol' i sootnesenie «smekhovoj kul'tury» s komicheskim i ser'eznym v russkoj
-
14. Lotman YU. M., Uspenskij B. A. Novye aspekty izucheniya kul'tury Drevnej Rusi // Voprosy literatury. 1977. № 3. S. 148–167.
-
15. Mann YU.V. Karnaval i ego okrestnosti // Voprosy literatury. 1995. № 1. S. 154–182.
-
16. Mann YU. V. Poetika Gogolya. M.: Hudozh. lit., 1978. 398 s.
-
17. Nikolaev D. P. Satiricheskoe otricanie i otricanie satiry // Voprosy literatury. 1968. № 12.
S.
-
18. Nikolaev D.P. Satira Gogolya. M.: Hudozh. lit., 1984. 367 s.
-
19. Pan'kov N.A. Voprosy biografii i nauchnogo tvorchestva M.M. Bahtina. M.: Izd-vo Mosk. un-ta, 2009. 720 s.
-
20. Pinskij L.E. Minimy / sost. i primech. E.M. Lysenko, E.L. Pinskoj, L.D. Mazur-Pinskoj. SPb.: Izd-vo Ivana Limbaha, 2007. 552 s.
-
21. Pinskij L.E. Otzyv o knige M.M. Bahtina «Tvorchestvo Rable i problemy narodnoj kul'tury srednevekov'ya i Renessansa»» // M.M. Bahtin: pro et contra. SPb.: RHGI, 2001. T. I. S. 391–397.
-
22. Pinskij L.G. Rable v novom osveshchenii // Voprosy literatury. 1966. № 6. S. 200–206.
-
23. Fridlender G. Real'noe soderzhanie poiska // Literaturnoe obozrenie. 1976. № 10. S. 61–64.
304 s.
Petrovym) // Strannik. 2014. № 2. S. 187–193. № 3. S. 180–185.
nacional'noj tradicii // Materialy Vsesoyuznogo simpoziuma po vtorichnym modeliruyushchim sistemam.
I(5).Tartu, 1974. S. 131–33.
91–110.