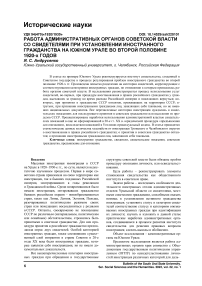Работа административных органов советской власти со свидетелями при установлении иностранного гражданства на Южном Урале во второй половине 1920-х годов
Автор: Андрусенко Ярослав Сергеевич
Рубрика: Исторические науки
Статья в выпуске: 1 т.22, 2022 года.
Бесплатный доступ
В статье на примере Южного Урала реконструируется институт свидетельства, созданный в Советском государстве в процессе регулирования проблем иностранного гражданства во второй половине 1920-х гг. Произведена попытка разделения на категории свидетелей, коррелирующие с соответствующими категориями иностранных граждан, по отношению к которым проводилась работа органов советской власти. В исследовании реконструируется процесс использования услуг свидетелей, во-первых, при процедуре восстановления в правах российского гражданства у граждан, выехавших за границу во время распада Российской империи и пожелавших вернуться; во-вторых, при принятии в гражданство СССР оптантов, проживавших на территории СССР; в-третьих, при признании иностранными гражданами лиц, заявлявших себя таковыми, но не имевших национальных документов. Все перечисленные категории иностранцев нуждались в свидетельских показаниях для последующего принятия в советское гражданство или выселения из пределов СССР. Проанализированы наработки использования административной властью свидетельских показаний в еще не сформированной в 20-е гг. XX в. юридической процедуре «предъявления для опознания», впоследствии вошедшей в Уголовно-процессуальный кодекс. В статье приводятся статистические данные количества ходатайств от иностранцев Троицкого и Челябинского округов о восстановлении в правах российского гражданства; о принятии в советское гражданство оптантов; о признании иностранными гражданами лиц, заявлявших себя таковыми.
Иностранное гражданство, свидетели, свидетельские показания, советское гражданство, предъявление для опознания
Короткий адрес: https://sciup.org/147236587
IDR: 147236587 | УДК: 94(470)61920/19309 | DOI: 10.14529/ssh220101
Текст научной статьи Работа административных органов советской власти со свидетелями при установлении иностранного гражданства на Южном Урале во второй половине 1920-х годов
Массовая иностранная иммиграция в СССР на Урале в 1920–1930-е гг., по сути, является недостаточно изученным процессом. Первая в мире советская страна привлекала на свою территорию как иностранцев, так и бывших подданных Российской империи, эмигрировавших в годы революции и Гражданской войны. Среди возвратившихся было немало иностранцев, оптировавших гражданство бывших российских окраин – новообразовавшихся стран, таких как Литва, Латвия, Эстония, Польша, разочарованных политическим режимом своих стран или пожелавших воссоединиться с родными в СССР. Оптанты, своевременно не покинувшие СССР по различным (материальным, политическим или семейным) обстоятельствам, стремились быть принятыми в советское гражданство. Для них процедура принятия в российское гражданство предполагала опрос двух свидетелей. Особой категорией иностранных граждан, также составивших существенный слой мигрантов в стране Советов в 20-е годы XX века были иностранные граждане, которые заявляли себя иностранцами, но не имели документальных доказательств.
Все вышеперечисленные категории иностранных граждан при обращении в государственные структуры советской власти были обязаны пройти процедуру опознания личности, или освидетельствования.
Цель работы – реконструировать элементы становления свидетельства как общественного института в советском праве.
Задачи работы – исследовать особенности деятельности иностранных столов административных отделов Уральской области со свидетелями, местными советскими гражданами, способными оказать помощь в установлении истинного гражданства иностранцев; установить статус и категории свидетелей соответственно статусу и категориям опознаваемых иностранных граждан при идентификации их личности; изучить и изложить в данной статье практические наработки административных органов, создававшиеся в процессе развития института свидетельства для решения правовых вопросов иностранцев; сделать выводы и обобщения.
Объект исследования – административные органы на Южном Урале.
Предметом исследования является работа административных органов края совместно с Объединенным государственным политическим управлением (ОГПУ) по освидетельствованию личностей иностранцев различных категорий для даль- нейшего принятия их в советское гражданство или выселения из страны.
Хронологические рамки исследования охватывают период с октября 1924 г. по март 1930 г. включительно. Нижняя граница этого периода связана с выходом циркуляра НКВД от 08.05.1923 г. № 138 и циркуляра Уральского областного исполнительного комитета № 33/6337 от 06.08.1924 г. о признании российскими гражданами лиц российского происхождения, находящихся за границей. Верхняя граница – издание циркуляра НКВД № 168/24/с от 08.03.1930 г. о прекращении выдачи видов на жительство по форме № 2.
Территориальные рамки исследования охватывают Южный Урал, а именно такие объекты административного деления Уральской области, как Челябинский и Троицкий округа.
Обзор литературы
Обзор историографии по избранной теме показывает, что научные исследования проводились в основном в правовом и историко-правовом дискурсе. В статье Л. П. Белковец изучаются условия полного обладания иностранными гражданами в РСФСР политическими правами: избирательными, гражданскими, вещными, семейно-брачными, трудовыми, правом на судебную защиту. Автором сделаны выводы о наличии в России национального режима в отношении иностранцев, который выражался в практически полном тождестве прав, предоставленных иностранцам, которые проживали на территории СССР для «трудовых занятий», и собственным гражданам [1, c. 296–350].
Г. И. Кочаров утверждает, что в юридической практике процессуальное действие освидетельствования принято называть «предъявлением для опознания», «…следственное действие, цель которого – установить, является ли предъявленный объект тем самым, который опознающий наблюдал ранее, в связи с фактом, имеющим отношение к исследуемому событию» [2, с. 81]. В статье Т. А. Николаевой освещается порядок проведения этого следственного действия, участниками которого являются иностранные граждане, имеющие характерные национальные и этнические особенности; участие в процедуре статистов; раскрываются особенности фиксации полученных результатов [3, с. 111–113].
К. А. Гущина исследовала проблему роли института свидетельства, считая, что он является одним из основных способов сбора доказательств при производстве предварительного расследования. Также было прослежено развитие системы следственных действий в истории, а именно процедуры «предъявления для опознания». В статье было отмечено, что в систему следственных действий, предусмотренную УПК РСФСР 1923 г., предъявление для опознания не входило. В связи с этим правила предъявления для опознания вырабатывались на практике [4, с. 88–91]. Основной порядок и тактические рекомендации «акта предъявления личности» были изложены В. И. Громовым в его монографии только в 1930 г. [5].
В статье Т. Ю. Филипповой о правовом положении иностранных граждан на территории российского государства представлен анализ нормативных актов, выявлены особенности применения законодательства на протяжении всей истории развития российского государства с XV в. по настоящее время [6, c. 295–301]. В работе О. А. Чабукиани рассмотрен процессуальный порядок предъявления для опознания как вида следственного действия; выявлены проблемы в вопросах по реализации прав участников и предложены пути решения данных проблем [7, с. 72–79].
Обзор историографии по избранной теме показывает, что в направлении исследования деятельности административных органов в отношении свидетелей относительно данного хронологического периода труды ученых отсутствуют, поэтому автором произведена попытка заполнить пробелы в истории развития процедуры освидетельствования.
Методы исследования
Теоретико-методологической основой исследования является теория модернизации, институциональный, междисциплинарный и историкоюридический подходы.
Основу источниковой базы составили нормативные акты (постановления СНК и ВЦИК, циркуляры и инструкции НКВД и др.). В исследовании использованы делопроизводственная документация, переписка, циркуляры местных административных органов Уральской области, личные дела иностранных граждан и другие документы (анкеты, повестки, протоколы, делопроизводственная переписка), которые находятся в фондах Государственного архива Российской Федерации и Областного государственного архива Челябинской области.
Результаты и дискуссия
В 1923 г. в РСФСР было проведено районирование Урала. Из Екатеринбургской, Пермской, Тюменской и Челябинской губерний была создана Уральская область, в состав которой вошли сначала 15 округов, а с 1924 г. – 16 [8, с. 7]. К середине 1920-х гг. на Урале сложилась устойчивая система административных органов, которые занимались вопросами иностранцев. Иностранное отделение (ИНО) при административном отделе Уральского областного исполнительного комитета советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов руководило ИНО при окружных административных отделах, окружные, в свою очередь, ведали делами иностранцев районных и сельских советов [9, с. 6–9].
В начале 1920-х гг. правовое положение иностранных граждан регулировали такие нормативные акты, как Декрет СНК от 29.08.1921 г.
«О въезде иностранцев из-за границы на территорию РСФСР» [10], Декрет СНК от 22.08.1921 г. «О принятии иностранцев в Российское гражданство» [11]. Данные Декреты обеспечивали защиту личных прав и имущественных интересов иностранцев, регулировали вопросы об уголовной ответственности за совершение преступлений, о порядке въезда и выезда, а также регламентировали принудительную высылку иностранцев и другие вопросы.
К середине 1920-х гг. в вопросах принятия иностранцев в гражданство СССР исполнительная власть руководствовалась циркуляром ВЦИК от 01.02.1926 г. «О принятии в гражданство СССР иностранцев» [12]. Регистрация, оформление видов на жительство, прописка иностранцев осуществлялись административными органами на основании циркуляров ИНО Центрального административного управления НКВД «О порядке регистрации иностранцев, пребывающих с визами на въезд и выезд» от 05.04.1926 г. и «О порядке регистрации иностранцев, прибывших с визами на въезд и выезд» от 03.04.1926 г. [13, л. 18-18об.]. Эти документы были разработаны на основании Положения «О въезде в пределы Союза Советских Социалистических Республик и о выезде из пределов Союза» [14].
Что касается лиц российского происхождения, находившихся за границей, то они признавались российскими гражданами только по восстановлении их в правах ВЦИКом или по проверке их документов полномочными представительствами СССР за границей. В обоих случаях они не считались российскими гражданами до получения от полпредства СССР за границей российского заграничного паспорта. Поэтому советские паспорта лицам российского происхождения, находящимся за границей, делавшим запрос на их получение (или их родственниками, проживавшими в СССР), не высылались. Самое большее, что разрешалось сделать сотрудникам в таких случаях, это высылать им копии прежних документов или выписок из них или высылать справки, что лицо на основании таких-то документов являлось российским гражданином, справки заверялись окружными или районными исполкомами. На документе, заверенном таким образом, ставилась отметка, что он выдавался по просьбе лица, находящегося за границей. Справки или копии высылались при условии оплаты их гербовым или консульским сбором. Гербовый сбор взимался в том случае, если запрос исходил от родственников или знакомых лица, находящегося за границей, консульский, - если запрос был сделан в Полномочное представительство СССР за границей самим иностранцем. Ответы местных районных исполкомов пересылались в окружные административные отделы с точным адресом заявителя, оплаченная пересылка, равная двум рублям, гаранти- ровала получение копий документов или справок через услуги почты [15, л. 6].
Иностранный гражданин, подавая заявление на восстановление в правах российского гражданства, заполнял анкету, которая через Полномочное представительство СССР пересылалась в ИНО НКВД, а затем в ИНО административного отдела той области, где иностранец проживал до выезда за границу. Это был первый этап процедуры идентификации личности. Далее административный отдел Уральского областного исполнительного комитета распределял ходатайства по округам, районам и сельским советам. Это было важно потому, что в анкете указывались координаты родных или лиц, знавших иностранца, способных подтвердить правильность данных, указанных в анкете.
В первое десятилетие советской власти в данной процедуре особенно велика была значимость свидетеля (опознающего). Свидетелями называли лиц, которым были известны определенные обстоятельства, имеющие юридическое значение для расследования и установления факта причастности человека к тому или иному гражданству [16, с. 95-96]. Административные отделы Исполнительных комитетов советов совместно с органами ОГПУ на основе свидетельских показаний принимали решения о возможности иностранцу вернуться в Россию на прежнее место жительства, получив для этого общегражданский заграничный паспорт. Административные органы власти по показаниям свидетелей могли установить достоверность информации, изложенной иностранцем в анкете, автобиографии. Таким образом, свидетель мог подтвердить, являлся ли человек тем лицом, за которое себя выдавал.
В мае 1927 г. в связи с участившимися случаями возвращения бывших советских граждан, некогда выехавших за границу и получивших иностранное гражданство, всем начальникам милиции и административных органов Уральской области была разослана в качестве руководства к действию специальная инструкция. Согласно этой инструкции, свидетели разыскивались через адресные столы окружных и районных административных отделов исполнительных комитетов советов. Если свидетелей находили, то их опрашивали в отделениях милиции, составляя на основании полученного руководства протоколы опроса. Если свидетелей найти не удавалось, проводился опрос соседей и других граждан, более или менее знавших иностранца [17, л. 159].
Поскольку запросы поступали из НКВД, процедура поиска и опроса свидетелей должна была производиться в срочном порядке. Но в действительности процесс затягивался вследствие многократных отписок, проволочек и задержек с ответом. Длительность процедуры принятия иностранца в российское гражданство обуславливалась не- сколькими причинами. Одна из них была связана с длительностью переписки между областным, окружными, районными административными отделами и органами ОГПУ при СНК СССР (до 1923 г. – Государственное политическое управление при НКВД РСФСР). В этой государственной структуре без объяснения причин на неопределенный срок могла быть задержана выдача документов иностранным гражданам, без осведомления, в связи с секретностью, последних. Челябинский окружной отдел ОГПУ в 1927 г. располагался по улице Васенко, в доме № 19 [18, л. 248].
Все запросы из ОГПУ в административный отдел по вопросу о выяснении сведений о лицах, проживавших за пределами СССР и возбуждавших ходатайства о въезде обратно на место их прежнего жительства, направлялись последним для выяснения в отделения и районы милиции своевременно. Что же касается несвоевременного, а зачастую и длительного неисполнения запросов, то это объяснялось «…дальним расстоянием населенных пунктов от резиденций Управлений милиции, в коих проживало то или иное лицо, через посредство которых поверяются ответы в анкетах» [19, л. 98].
Руководством предписывалось в процессе опознания личности детально проверять прошлую жизнь иностранцев, особенно в период гражданской войны и последующего времени пребывания за границей. Особое внимание рекомендовалось уделять иностранцам, проживавшим за границей, которые в прошлом были офицерами. Сведения о них добывали у членов партии, которые знали их и что-либо могли сообщить. Сотрудникам милиции разрешалось кроме анкетных данных получать информацию о том, когда и где родился иностранец, кто были его родители, где они проживали и чем занимались. Необходимо было получить сведения о том, где иностранцы находились до революции и до момента выезда за границу, а также выяснить, чем занимались, где служили, в каких должностях. Обязательно устанавливалась причина выезда за границу: мобилизация в армию, эмиграция с белыми или причина частного характера. Помимо этого выяснялось, какое иностранцы имели образование, где и когда учились, при этом требовалось перечислить все учебные заведения. Важным в установлении личностей иностранцев являлось их отношение к последнему периоду пребывания в России, а также к «наследию», а именно марксистско-ленинской идеологии и к отдельным политическим лидерам страны Советов. Требовалось выяснить, не совершались ли иностранцами какие-либо преступные деяния и в чем точно они проявлялись. Немаловажной задачей было узнать, какое участие иностранцы принимали в общественной работе до выезда из России, поддерживало ли лицо, пребывающее за границей связь с родственниками и в чем она выражалась.
Свидетелей допрашивали в отделениях милиции, надзиратель повесткой приглашал свидетелей, проводил допрос и заполнял протокол, фиксируя в нем данные о себе, свидетелях и свидетельские показания об иностранце, освидетельствование которого происходило. Во время допроса свидетели заполняли анкеты, указывая свои фамилию, имя, отчество, возраст, место рождения, место проживания, национальность, степень грамотности, принадлежность к партии и к профсоюзам. В протоколах допросов свидетелями указывалось ремесло, семейное положение, отбытие воинской повинности, занятия до революции, судимость, социальное и имущественное положение, сколько имелось скота у данного свидетеля и какого качества, в каком состоянии его жилье [20, л. 174, 210, 222]. Далее свидетелю предоставлялась возможность сообщить от себя все известное об иностранце, желавшем въехать в СССР и стать полноправным советским гражданином, подтвердить правильность данных, указанных иностранцем в анкете [21, л. 222].
Лица, однажды покинувшие СССР в связи с переменой гражданства и пожелавшие вернуться, ждали положительного решения продолжительное время. Они обращались в Полномочное представительство СССР в своей стране, нередко при этом получая на повторные запросы: «Пока еще ответа нет». Их находившиеся в России родственники пытались ускорить процесс. С этой целью они должны были подать в органы управления платное заявление (пошлина за заявление составляла 2 руб.). Как правило, в ответ на такие заявления указывалось, что все решения по принятию иностранцев в советское гражданство принимает Полномочное представительство СССР в стране проживания иностранца. По предписаниям все заявления и ходатайства в органы советской власти приходилось оплачивать способом «погашения» гербовых марок, приклеивая их на заявление, не оплаченные документы «оставались без движения» [22, л. 52–58]. Но фактически гербовый сбор могли «испрашивать» и с опозданием, по истечении какого-то времени и после удовлетворения ходатайства [13, л. 18–18об.].
Всего за период с 13.09.1926 г. по 07.05.1927 г. из-за границы в Челябинский округ поступило 25 заявлений от иностранных граждан с ходатайством о восстановлении их в правах российского гражданства. На 21 заявление были даны положительные ответы, свидетели подтвердили правильность указанных в анкетах данных, а местные органы власти ничего не имели против возвращения заявителей на прежнее место их жительства. В двух случаях свидетели не были обнаружены: в одном – из-за отъезда за пределы Уральской области, в другом – из-за ошибки в написании фамилии. Документы одного иностранного гражданина, оказавшегося жителем Кургана, были переправле- ны в соответствующий округ. В одном случае было выявлено «…преступное по отношению к советской власти прошлое». Так, свидетель иностранца Кучина заявил о своем опознаваемом, что тот в годы Гражданской войны был начальником национального отряда и занимался арестами сочувствующих советской власти и «насаждал» атаманов для борьбы против большевиков [23, л. 188].
В случае, когда показания свидетелей выявляли преступное по отношению к советской власти прошлое, для полноты доказательства таких фактов требовалось подтверждение еще нескольких лиц, фигурировавших в заявлении, а также тех, кто непосредственно подвергался репрессиям (был арестован и т. д.) со стороны самого иностранца. Для этого также использовалась имевшаяся в личном деле «фотографическая карточка». Примечательно, что лица, восстановившиеся в правах российского гражданства, одновременно освобождались от ответственности за совершенные до этого преступления. К уголовной ответственности привлекались органами ОГПУ те граждане, которые, возбуждая ходатайство, пытались скрыть преступные деяния [24, л. 4].
С анкетой иностранца из районов в округ возвращали протокол допроса свидетелей, составленный милиционером, или справку из местного сельского совета о том, что «…гражданин происходит из граждан такой-то деревни». Все ответы из районов милиции окружной административный отдел направлял в окружной отдел ОГПУ [25, л. 18, 21–22, 30, 35, 52–53, 61–63, 67–70, 75–77, 101–102, 105–108, 112–120, 138, 140–141, 147–154, 160, 170–178, 186–190, 196].
Еще одной из категорий иностранных граждан, нуждавшихся в привлечении свидетелей, были лица, оптировавшие гражданство стран-лимитрофов, пограничных с Россией, образовавшихся при распаде царской России: Латвии, Литвы, Эстонии, Польши, Финляндии. Эти граждане прибегали к освидетельствованию как к возможности доказать свою лояльность к советской власти и благонадежности в совместном строительстве социалистического общества.
Тексты показаний свидетелей иностранцев, проживавших на Южном Урале, в частности в Челябинском округе: «Мы, нижеподписавшиеся, удостоверяем полную благонадежность как в политическом отношении (т. е. отсутствие участия лица в контрреволюционных акциях), так и несомненную лояльность к Российской СФ [Советской Федеративной] Республике означенного в сей анкете лица, которого мы знаем за достойного и вполне корректного человека». Или «Мы, нижеподписавшиеся, знаем товарища как преданного советской власти, исполнительного и ревностного, стоящего на защите интересов рабочего класса, а также и как хорошего профессионального работ- ника. Полагаем, что товарищ … вполне достоин носить звание гражданина СССР. Все изложенное в настоящей анкете подтверждаем» [26, л. 70, 100].
При установлении лояльности оптанта к советской власти допросы свидетелей происходили при обязательном присутствии нотариуса и выполнении им всех формальностей, подтверждающих показания свидетелей. Представитель нотариальной конторы удостоверял, что настоящие подписи сделаны собственноручно определенными людьми, указывал их адреса и предоставленные ими документы, которые они предъявляли для подтверждения своей личности. Обычно это были временные удостоверения личности для советских граждан из местных исполнительных комитетов или временные свидетельства, выданные в отделениях милиции. Заверить подписи свидетелей и заявителей других категорий граждан могли управдомы по месту жительства или начальники учреждений, чаще всего это были начальники административных отделов, где происходило освидетельствование [27, л. 9].
Следующая категория – иностранцы, проживавшие в пределах Уральской области, которые с помощью свидетельских показаний могли доказать свое иностранное гражданство. Усиление режима учета иностранных граждан к середине 1920-х гг. повлекло за собой их обращение в органы управления за получением удостоверений личности. Иностранцы, утратившие национальные паспорта или прибывшие в Россию, будучи вписанными в документы родителей, лично не имевшие документов, стали обращаться в местные административные отделы. Они подвергались тщательному допросу надзирателями отделений милиции, составлявшими протоколы допросов, в которых фиксировалось подданство иностранца, время приезда в Россию, место проживания по прибытии, сведения о роде занятий иностранца, о способе получения средств, необходимых к существованию, истинности иностранного происхождения. Главным образом милицией выяснялось, где, когда и при каких обстоятельствах они остались без национальных паспортов, которые, по их заявлениям, прежде имелись. Для подтверждения всех данных об иностранцах достаточно было опросить 1 – 2 свидетелей, на которых ссылались в своих заявлениях лица, заявлявшие себя иностранцами. Обязательным условием допроса свидетелей было предупреждение о строгой ответственности за дачу ложных показаний [28, л. 229, 231].
Свидетель должен был сообщить один или несколько фактов, подтверждающих принадлежность заявителя к тому или иному гражданству. Документально не подтвержденные свидетельства брались за основу в принятии решения о выдаче заявителю удостоверения личности иностранного образца, как правило, им выдавали вид на жительство для иностранцев по форме № 2
[29, л. 205, 209, 217]. Но были и отказы гражданам в признании их иностранцами за недостаточностью сведений, предоставленных свидетелями, если последние признавались, что знают о гражданской принадлежности заявителя со слов его самого. В большинстве случаев претендентам на иностранное гражданство приходилось «бороться» за право признания его таковым, привлекая весьма серьезных свидетелей, таких как председатели и секретари сельских советов, члены и кандидаты ВКП(б), руководители предприятий, на которых работали иностранцы [29, л. 205, 209, 217].
По показаниям свидетелей начальник административного отдела принимал положительное решение, и иностранец получал вид на жительство для иностранцев по форме № 2 на три месяца. За этот срок он должен был получить национальный паспорт, обратившись в иностранное представительство своего государства или посольство, находившееся при НКИД в г. Москве. Административные отделы, предоставив разъяснения по дальнейшим действиям иностранца, участия в посредничестве его обращения в НКИД не принимали. В том случае, если иностранец в трехмесячный срок не получал национального документа, он обязан был явиться с видом на жительство в милицию для получения вида на жительство наравне с гражданами РСФСР, автоматически становясь советским гражданином [30, с. 173]. Если иностранец получал иностранный паспорт, то он был обязан в течение недельного срока выехать на родину [31, л. 223]. Советское правительство ставило перед собой цель склонить иностранцев к принятию российского гражданства, в качестве альтернативы предлагалось в срочном порядке и за свой счет покинуть пределы СССР. Отсрочить выезд иностранца за границу можно было лишь документированным доказательством болезни или смерти его родных. Часто иностранцы выбывали за пределы области, округа или района, иногда и в неизвестном направлении. По этой причине в документах не указывалось дальнейшее следование иностранца [32, л. 1]. Все собранные показания свидетелей формировались в материалы и направлялись в окружной отдел ОГПУ Уральской области [23, л. 188]. Многие иностранцы так и продолжали проживать без национальных паспортов, пока не вышли положения о гражданстве СССР от 13.06.1930 и 22.09.1931 гг., по условиям которых, если в шестимесячный срок иностранец не получал от правительства своей страны документа, то автоматически становился гражданином СССР [1, с. 296–350].
За период с мая по август 1927 г. в Челябинском административном отделе было зафиксировано пять обращений местных граждан, заявивших себя иностранцами. Из них трое с помощью свидетельских показаний своих соотечественников, проживавших в Челябинске, в течение месяца по- лучили виды на жительство по форме № 2 для дальнейшего оформления иностранного гражданства.
В Троицком административном отделе за период с 01.10.1926 г. по 01.01.1927 г. было выдано 30 видов на жительство по форме № 2 гражданам, признанным советским правительством иностранцами. Всего по Троицкому округу было принято заявлений от 17 лиц, заявивших себя иностранными подданными, из них получили виды на жительство по форме № 2 9 человек [34, л. 69–69 об.].
В марте 1930 г. циркуляром НКВД № 168/24/с от 8/III-30 г. было предписано всем административным управлениям виды на жительство для иностранцев по форме № 2 не выдавать. Гражданам, которые обратились за данными документами, не отказывали, у них все же принимали заявления с имеющимися документами, но без оплаты гербового сбора. Заявителям такое положение дел объясняли тем, что «необходимо навести соответствующие справки». Выданные виды на жительство по форме № 2 до выхода этого циркуляра продлевались без ограничений. Для продления видов на жительство гражданам, заявившим о принадлежности к гражданству тех стран, с которыми СССР состоял в дипломатических отношениях, срок сокращался до 1 – 2 месяцев [35, с. 113].
В 1929–1930-е гг. были нередки случаи выдачи национальных (иностранных) паспортов советским гражданам. Появилась необходимость выяснения этого обстоятельства. Вначале 1930-х гг. иностранцам с национальными паспортами для получения видов на жительство по форме № 1 требовалось установить, не являлся ли иностранец на момент подачи заявления на получение вида на жительство советским гражданином [36, л. 3].
Всего на сентябрь 1926 г. в Челябинском округе на учете в административном отделе стояло 27 иностранных граждан. К ноябрю 1927 г. в округ прибыло еще 22 человека. В данный период иностранным столом было зарегистрировано 49 иностранцев [36, л. 3]. Всего на октябрь 1926 г. в Троицком окружном административном отделе на учете состояло 59 иностранцев. За период с 01.10.1926 г. по 01.01.1927 г. прибыло 8 человек, убыло 8 человек, 9 из них являлись иностранцами, проживающими без национальных паспортов [34, л. 69–69об.].
Это цифровые данные, которые административные отделы могли зафиксировать благодаря хотя и несовершенному к тому времени, но все же существовавшему учету иностранцев.
Выводы
Итак, по отношению ко всем вышеописанным категориям иностранцев соответствовали определенные категории свидетелей, чьи свидетельские показания имели разную направленность. Для иностранцев, находившихся за границей и желавших восстановиться в правах российского гражданства, чтобы вернуться в Россию, от свидетелей требовалась верификация данных, указанных в анкете, о жизни иностранца до отъезда из России.
Для иностранных граждан, некогда оптировавших иностранное гражданство, но по каким-либо причинам не выехавших на родину, трудившихся в советском государстве и считавших, что «сделали необдуманный шаг», не оставшись в прежнем советском гражданстве, свидетелей привлекали для подтверждения благонадежности и лояльности к советской власти.
Для граждан, проживавших на территории СССР, считавших себя иностранцами, не имевших документальных доказательств, в целях идентификации личности и подтверждения иностранного гражданства требовались свидетели.
Освидетельствование носило различный характер: от голословного утверждения, что лицо является иностранцем, до разбирательства протяженностью во времени в несколько лет, с привлечением в качестве свидетелей членов партии, председателей и секретарей сельских советов и других чиновников. В большинстве случаев установление действительного гражданства таких лиц являлось весьма затруднительным. В итоге виды на жительство по форме № 2 для иностранцев выдавались лицам, иностранное гражданство которых надлежащим образом доказать не представлялось возможным. Показания и подписи заявителей-оптантов и их свидетелей заверял представитель нотариальной конторы, в остальных случаях достаточно было подписи начальника административного отдела.
Практические наработки осуществлялись в таких следственных процедурах, как розыск свидетелей, вызов по повестке свидетелей в отделения или районы милиции, предупреждение об ответственности за дачу ложных показаний, допрос, заполнение анкет и протоколов допросов, удостоверение подписей, сбор материалов и направление в местные отделы ОГПУ. Таким образом, на практике вырабатывались правила следственного действия – предъявления для опознания.
Во второй половине 1920-х гг. проблемы установления иностранного гражданства у лиц, заявлявших себя иностранными гражданами, восстановления прав российского гражданства у лиц, находившихся за границей, получения советского гражданства иностранцами в СССР, стали занимать важное место в работе новых местных органов власти. Опираясь на развивавшийся институт свидетельства, советское правительство успешно осуществляло политику укрепления советского гражданства.
Список литературы Работа административных органов советской власти со свидетелями при установлении иностранного гражданства на Южном Урале во второй половине 1920-х годов
- Белковец, Л. П. Иностранцы в Советской России (СССР): регулирование правового положения и порядка пребывания (1917-1939-е гг.) : Первая часть / Л. П. Белковец // Юридические исследования. - 2013. - № 5. - С. 296-350.
- Кочаров, Г. И. Опознание на предварительном следствии / Г. И. Кочаров. - М., 1955. - С. 81.
- Николаева, Т. А. Особенности производства предъявления для опознания с участием иностранных граждан / Т. А. Николаева // Проблемы экономики и юридической практики. - 2010. -№ 3. - С. 111-113.
- Гущина, К. А. Историко-правовой аспект развития предъявления для опознания / К. А. Гущина // Молодой ученый. - 2019. - № 36. - С. 88-91.
- Громов, В. У. Предварительное расследование по уголовным делам : руководство для органов расследования / В. У. Громов. - М. : Госюриз-дат, 1930.
- Филиппова, Т. Ю. История развития законодательства и правового положения иностранных граждан на территории российского государства / Т. Ю. Филиппова // Вестник ИрГГУ. - 2013. -№ 6 (77).- С. 295-301.
- Чабукиани, О. А. Обеспечение прав личности при предъявлении для опознания / О. А. Чабукиани // Вестник СПбУ МВД России. - 2009. -№ 3 (43).- С. 72-79.
- Мирошниченко, М. И. Женщины на Урале в 1920-е гг. - сер. 1930-х гг.: структуры социума, мировоззрение, деятельность : дис. ... д-ра ист. наук / М. И. Мирошниченко. - Челябинск, 2016. - С. 7.
- Андрусенко, Я. С. Институциональная среда регулирования проблем иностранного гражданства на Южном Урале в первой половине 1920-х годов / Я. С. Андрусенко // Вестник ЮУрГУ. Социально-гуманитарные науки. - 2021. - № 2. - С. 6-9.
- С.У. 1921 г. № 62 ст. 451, Бюллетень НКВД № 10 от 16.11.1921. Декрет СНК от 29.08.1921 г. «О въезде иностранцев из-за границы на территорию РСФСР».
- С.У. 1921 г. № 62 ст. 451, Бюллетень НКВД № 10 от 16.11.1921 г., Декрет СНК от 22.08.1921 г. «О принятии иностранцев в Российское гражданство».
- Циркуляр ВЦИК «О принятии в гражданство СССР иностранцев» от 01.02.1926 г. // Собрание узаконений и распоряжений правительства за 1926 г. - М. : Управление делами Совнаркома СССР. - № 11. - Ст. 85.
- ОГАЧО. - Ф. Р-422. - Оп. 5. - Д. 12.
- Положение «О въезде в пределы СССР и выезде из пределов Союза» // С.З. 1925 г., № 37, ст. 277. Известия ЦИК и ВЦИК. - № 1318. -12 июня 1925.
- ОГАЧО. - Ф. Р-11. - Оп. 3. - Д. 8.
- Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь ; вступ. ст. Л. Л. Зайцевой. - Мн., 2001. - С. 95-96.
- Объединенный государственный архив Челябинской области (далее - ОГАЧО). -Ф. Р-11. - Оп. 1. - Д. 36.
- ОГАЧО. - Ф. Р-422. - Оп. 5. - Д. 53.
- ОГАЧО. - Ф. Р-11. - Оп. 1. - Д. 40.
- ОГАЧО. - Ф. Р-11. - Оп. 1. - Д. 36.
- ОГАЧО. - Ф. Р-11. - Оп. 1. - Д. 36.
- ОГАЧО. - Ф. Р-11. - Оп. 1. - Д. 40.
- ОГАЧО. - Ф. Р-11. - Оп. 1. - Д. 36.
- Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ). - Ф. Р-393. - Оп. 43а. - Д. 723.
- ОГАЧО. - Ф. Р-11. - Оп. 1. - Д. 40.
- ОГАЧО. - Ф. Р-11. - Оп. 3. - Д. 13.
- ОГАЧО. - Ф. Р-422. - Оп. 6. - Д. 54.
- ОГАЧО. - Ф. Р-11. - Оп. 1. - Д. 36.
- ОГАЧО. - Ф. Р-11. - Оп. 1. - Д. 36.
- Циркуляр НКВД за № 340 от 28.10.1922 г.// Бюллетень НКВД № 44. - С. 173.
- ОГАЧО. - Ф. Р-11. - Оп. 1. - Д. 36.
- ОГАЧО. - Ф. Р-422. - Оп. 6. - Д. 32.
- ОГАЧО. - Ф. Р-11. - Оп 1. - Д. 36.
- ОГАЧО. - Ф. Р-422. - Оп. 5. - Д. 47.
- Белковец, Л. П. Регулирование порядка доказательства прав иностранного гражданства в СССР (1930-1950-е гг.) / Л. П. Белковец // Вестник Томского университета. - 2010. - № 338. - С. 113.
- ОГАЧО. - Ф. Р-11. - Оп. 1. - Д. 40.