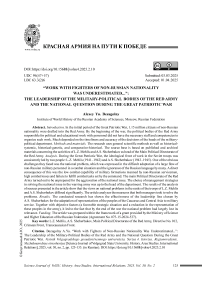«Работа с бойцами нерусской национальности недооценивалась...»: руководство военно-политических органов Красной армии и национальный вопрос в годы Великой Отечественной войны
Автор: Безугольный А.Ю.
Журнал: Вестник ВолГУ. Серия: История. Регионоведение. Международные отношения @hfrir-jvolsu
Рубрика: Красная Армия на пути к победе
Статья в выпуске: 2 т.30, 2025 года.
Бесплатный доступ
Введение. В начальный период Великой Отечественной войны в состав Красной армии было призвано 1,15 млн граждан нерусской национальности. Политические органы Красной армии, ответственные за политико-воспитательную работу с личным составом, к началу войны не располагали необходимыми кадрами и компетенциями для организации такой работы. Многое зависело от своевременности и точности решений руководителей военно-политического ведомства. Методы и материалы. В исследовании применены общенаучные методы, а также историко-системный, историко-генетический, сравнительно-исторический. В основу источниковой базы легли опубликованные и архивные материалы, касающиеся деятельности Л.З. Мехлиса и А.С. Щербакова на должности начальника Главного политуправления Красной армии. Анализ. В период Великой Отечественной войны идеологическим фронтом работы в советских войсках последовательно руководили два человека – Л.З. Мехлис (1941–1942) и А.С. Щербаков (1943–1945). Одной из очевидных трудностей, с которой они столкнулись, стала национальная проблема, выражавшаяся в сложной адаптации большого потока нерусских военнослужащих в боевой обстановке, незнании многими русского языка. Прямым следствием этого были низкая боеспособность воинских формирований, укомплектованных нерусскими военнослужащими, высокие боевые потери и невыполнение поставленных командованием боевых задач. Главное политическое управление РККА оказалось неготовым к обострению национального вопроса. Выбор управленческих стратегий в решении национального вопроса в воюющей армии был за начальником ведомства. Представленные в статье результаты анализа источников показывают, что взгляды на национальные проблемы в рядах войск Л.З. Мехлиса и А.С. Щербакова существенно различались. В статье проанализированы меры, которые предпринимали оба руководителя для решения задач. Результаты. Проведенное исследование показало эффективность выбранной А.С. Щербаковым руководящей линии по адаптации к военной службе представителей народов Кавказа и Средней Азии. В совокупности с объективными факторами (благоприятная стратегическая обстановка и сокращение представительства этих народов в армии) она привела к тому, что к концу войны национальная проблема в значительной мере потеряла актуальность. Финансирование. Статья подготовлена в рамках гранта, предоставленного Министерством науки и высшего образования Российской Федерации (соглашение № 075-15-2024-537).
Л.З. Мехлис, А.С. Щербаков, Главное политическое управление Красной армии, директива № 012, Крымский фронт, Закавказский фронт
Короткий адрес: https://sciup.org/149147753
IDR: 149147753 | УДК: 94(47+57) | DOI: 10.15688/jvolsu4.2025.2.10
Текст научной статьи «Работа с бойцами нерусской национальности недооценивалась...»: руководство военно-политических органов Красной армии и национальный вопрос в годы Великой Отечественной войны
DOI:
Цитирование. Безугольный А. Ю. «Работа с бойцами нерусской национальности недооценивалась...»: руководство военно-политических органов Красной армии и национальный вопрос в годы Великой Отечественной войны // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 4, История. Регионоведе-ние. Международные отношения. – 2025. – Т. 30, № 2. – С. 125–135. – DOI:
Введение. Главное управление политической пропаганды РККА (1940–1941 гг.; далее – ГУПП РККА), затем Главное политическое управление РККА (1941– 1946 гг.; далее – ГлавПУРККА) – центральный орган руководства политико-воспитательной работой с военнослужащими Красной армии в период Великой Отечественной войны. Оно функционировало одновре- менно как центральный орган управления Наркомата обороны СССР и как военный отдел ЦК РКП(б)/ВКП(б). Военные политорганы занимались политическим воспитанием личного состава в целях укрепления его морально-боевых качеств и совершенствованием армейской партийно-комсомольской организации для усиления партийного влияния на армейский организм.
В ряду многочисленных задач ведомства в период войны оказалась и та, к которой к началу войны оно оказалось не готово. Речь идет о национальном вопросе, чрезвычайно обострившемся в связи с мобилизацией большого числа граждан, плохо владевших или вовсе не владевших русским языком, нередко малограмотных и религиозных. По самой общей оценке военного ведомства, с начала войны по 1 апреля 1942 г. в ряды советских войск было призвано 1,15 млн граждан неславянских национальностей [23]. Военное обучение и боевое применение таких контингентов оказалось непростой задачей. Курс национальной политики в войсках в значительной мере определялся руководством военно-политического ведомства. В данной статье рассмотрены личные позиции и решения по национальному вопросу начальников Главного политуправления РККА в годы войны – Л.З. Мехлиса и сменившего его в июне 1942 г. А.С. Щербакова.
Методы и материалы. В исследовании применены общенаучные методы, а также историко-системный, историко-генетический, сравнительно-исторический.
Историография темы . Высоким научным качеством обладает биография Л.З. Мех-лиса, разработанная В.Ю. Рубцовым [18; 19]. Деятельности Мехлиса на посту начальника военно-политического ведомства посвящен ряд статей [2; 10]. Биография А.С. Щербакова еще ждет научного осмысления. В противоположность Мехлису в советской историографии его представляли спокойным, рассудительным, обязательным, ответственным [7; 13; 14]. Продолжается его апология и в современной литературе [6, с. 60]. Из крупных работ существует пока только биография, написанная А.Н. Пономаревым [14], весьма слабая в источнико-вом отношении. В целом в перечисленной литературе не выявлены позиции и решения руководителей военно-политического ведомства по национальному вопросу в Красной армии в годы войны. Частично вопрос затрагивался в работах автора этой статьи [3, с. 456–503; 11, с. 209–238], однако акцентированного исследования до сих пор не предпринято.
Источниками исследования послужили архивные и опубликованные документы. Из архивных источников стоит упомянуть материалы личного фонда А.С. Щербакова в Российском государственном архиве социально-политической истории (РГАСПИ, ф. 88) и фонда Главного политического управления РККА в Центральном архиве Министерства обороны РФ (ЦАМО РФ, ф. 32). Среди опубликованных источников особого внимания заслуживают фундаментальные сборники документов о деятельности ГлавПУРККА [20] и ЦК ВКП(б) [32], позволившие уточнить линию военно-политического руководства страны в области проведения национальной политики в Вооруженных силах СССР. В работе также использованы мемуары нескольких высокопоставленных политработников, журналистов и писателей, среди которых заслуживают особого упоминания содержательные воспоминания бывшего начальника управления кадров ГлавПУРККА Н.В. Пу-пышева [16].
Анализ. С начала войны и до 4 июня 1942 г. должность начальника Главного управления политической пропаганды РККА (с 17 июля 1941 г. – Главное политическое управление РККА) занимал армейский комиссар 1-го ранга Л.З. Мехлис, чья военная карьера была неоднократно скомпрометирована серьезными провалами в работе. Не будучи вхожим в ближайший круг Сталина, тем не менее, безусловно, он являлся его доверенным лицом. Мехлис обладал взрывным характером, был склонен к штурмовщине, нервной, лихорадочной деятельности, не чурался угроз и репрессий.
Персональная позиция Л.З. Мехлиса по национальному вопросу в Красной армии представляется вполне однозначной. Заняв должность начальника военно-политического ведомства в конце 1937 г. (тогда оно именовалось Политуправлением РККА), Мехлис оказался на самом гребне «новоимперской» идеологии, венчавшейся концептом «русские – старшие братья в семье советских народов». Между тем проблема социальной и языковой адаптации военнослужащих нерусской национальности определилась уже накануне войны, когда в 1939 и 1940 гг. прошли первые массовые военные призывы в союзных республиках Средней Азии и Закавказья. В Красную армию хлынул многотысячный поток людей, не знавших русского языка (в национальной школе он или не преподавался, или препода- вался вторым или третьим языком). Накануне войны обошлись рядом паллиативных решений, не сдвинувших с места решение национального вопроса в армии.
С первых дней войны Л.З. Мехлис стал выразителем патриотической русофильской и славянофильской линии в армейской пропаганде. Он сосредоточил внимание своего ведомства на пропаганде русской истории, культуры, особенно военной истории и воинских традиций. Катастрофическое начало войны оказалось не лучшим временем для системных, вдумчивых решений. Мехлис был убежден в том, что лучший способ поднять боеспособность необстрелянных дивизий – это «бросить их в бой» [31]. Следуя этой парадигме, он «спрямлял углы», не принимая во внимание национальные, социальные, возрастные и иные особенности контингента красноармейцев.
С 20 января 1942 г. в качестве представителя Ставки Верховного главнокомандования, сохраняя за собой должность начальника Глав-ПУРККА, Мехлис был командирован на Крымский фронт, где оказался лицом к лицу перед сложнейшими проблемами, связанными с многонациональным составом Красной армии, и начал, что называется, прозревать. Крымский фронт был образован в конце 1941 г. путем выделения из Кавказского фронта, поэтому в его составе числилось 12 стрелковых соединений, частично или полностью укомплектованных бойцами закавказских национальностей. На 20 февраля 1942 г. их численность достигала 47,8 тыс. чел., или 35 % от всего личного состава фронта [22, л. 8]. Мехлис неоднократно просил Сталина заменить уроженцев Кавказа русскими [8]. Поняв, что избавиться от них не получится, Мехлис, с присущей ему кипучей энергией, приступил к организационным и воспитательным мероприятиям, использовав для этого выдавшийся длительный период относительного затишья (февраль – апрель 1942 г.). Для начала кавказские военнослужащие были перегруппированы по национальностям, в результате чего были образованы три почти однородно национальные дивизии: 224-я грузинская, 390-я армянская и 396-я азербайджанская.
Мехлис подключил все служебные и личные связи. Так, он хлопотал перед ближайшим помощником Сталина секретарем ЦК ВКП(б)
Г.М. Маленковым о направлении кандидатов на должности командиров национальных дивизий, намеченных военным советом Крымского фронта [25]. У партийных лидеров закавказских республик он просил содействия в изыскании политработников и командиров среднего звена (взвод, рота, батальон) [26]. В итоге в каждую из трех национальных дивизий было командировано в среднем по 70 ответственных руководящих партийных и советских работников, которые были назначены на должности политсостава. От начальника Главного управления формирования и укомплектования войск (далее – Главупраформ) Красной армии, армейского комиссара 1-го ранга Е.А. Щаденко Мехлис добился присылки шести маршевых рот «отборного состава грузин и армян, понимающих русский язык, прежде всего коммунистов и комсомольцев». Также он и его просил о выделении 50 командиров армянской, азербайджанской и грузинской национальностей [29].
Именно в Крыму Мехлис впервые с начала войны стал принимать меры по налаживанию политико-воспитательной работы с военнослужащими нерусской национальности. В феврале 1942 г. в телеграфных переговорах с главным редактором «Красной звезды» Д.И. Ортенбергом он наставлял: с одной стороны, необходимо «продолжать пропаганду о задачах немцев покорить славян и все народы СССР, сделать их рабами», а с другой стороны, стоит учитывать, что «мы позабыли борьбу немцев за покорение Кавказа, их стремление к богатствам закавказских народов. Враждебные элементы не прочь представить, что немцы только якобы русских ненавидят, а мы можем быть нейтральными...» [28].
-
11 марта 1942 г. по инициативе Мехлиса были учреждены национальные газеты для вновь сформированных национальных дивизий [15]. «Главное – обеспечить, чтобы газета не попала в руки буржуазного националиста или пораженца», – предупреждал Мехлис своего заместителя по ГлавПУРККА Ф.Ф. Кузнецова [30]. Во всех частях национальных дивизий была введена должность политрука взвода, причем на эти должности назначались исключительно национальные кадры.
В то же время Мехлис не забывал и о привычных для него репрессивных методах, требуя перевести на грузинский, армянский и азербайджанский языки закон о каре изменников родины, издать большим тиражом и довести до каждого бойца. «Самое важное, что должен знать боец, – о репрессии в отношении семьи», – переживал он [27].
Как видно, преобразования Мехлиса в области национального вопроса носили реактивный характер: они были непосредственно вызваны возникшими на Крымском фронте затруднениями. Сложно сказать, был бы этот эмпирический опыт масштабирован на всю Красную армию, если бы 4 июня 1942 г., едва прибыв в Москву из Крыма, Мехлис не лишился поста начальника Главного политуправления РККА и не был понижен в звании до корпусного комиссара.
-
12 июня его место занял секретарь ЦК ВКП(б) А.С. Щербаков. На этой должности он находился до самого Дня Победы и скончался от тяжелой болезни на следующий день – 10 мая 1945 года.
Щербаков – партийный функционер, прежде не связанный с военной службой. В конце 1930-х гг. он быстро продвигался по служебной лестнице, с 1938 г. работая секретарем Московского областного и городского комитетов ВКП(б). К моменту назначения на должность заместителя наркома обороны и начальника Главного политуправления он уже имел целый «куст» идеологических должностей: непосредственно накануне войны он был избран секретарем ЦК ВКП(б) и в этом качестве курировал деятельность Управления пропаганды и агитации ЦК ВКП(б), а также непосредственно руководил Совинформбюро. В целом в его руках были сосредоточены вопросы пропаганды и агитации, средств массовой информации, народного просвещения, искусства, кино, радиовещания, книгоиздания и т. д.
В молодости судьба забросила Щербакова в Среднюю Азию, где он организовывал комсомольские ячейки. Там он общался с местным населением, приобретя определенный багаж бытовых наблюдений и впечатлений о регионе. Этот короткий опыт позволил Щербакову считать себя компетентным в национальном вопросе («Я работал среди национальностей...») [24, л. 10]. Впрочем, справедливости ради следует сказать, что в первые военные месяцы Щербакову неоднократ- но приходилось решать самые разные вопросы из республик РСФСР и СССР, стекавшиеся к нему, как к секретарю ЦК ВКП(б).
Так или иначе, национальный вопрос наконец вошел в повестку дня военно-политического ведомства. Уже в июне 1942 г. работа с нерусскими бойцами обсуждалась на незадолго до этого созданном Совете военно-политической пропаганды при ГлавПУР-ККА, а 6 июля 1942 г. – на Всеармейском совещании членов военных советов и начальников политуправлений фронтов. Щербаков не раз критиковал подходы к национальному вопросу своего предшественника, впрочем никогда не персонализируя свои претензии. В частности, в августе 1943 г. он отмечал, что на первом этапе войны «длительное время политическая работа среди бойцов и командиров [нерусской национальности] была у нас организована очень плохо»; «а когда эту работу вели, то стригли всех под одну гребенку, не учитывая обычаев, уклада национальной жизни т. д.» [24]. В результате бойцы нерусской национальности оказывались выключенными из жизни воинской части, ощущали себя заброшенными, предоставленными самим себе; до них не доводилась актуальная информация о положении на фронтах и в тылу [17]. Следствием этого становились низкая боеспособность соединений, укомплектованных нерусскими военнослужащими и распространение среди них воинских преступлений (членовредительство, дезертирство, сдача в плен).
По воспоминаниям занимавшего в 1942 г. должность начальника управления кадров ГлавПУРККА Н. В. Пупышева, национальная тема была в этот момент совершенно новой для аппарата военно-политического ведомства: «Мы конечно же знали, что бойцы нерусской национальности имеются на всех фронтах. Но сколько их на том или ином фронте?» [16, с. 96]. Был сделан соответствующий запрос в Главупраформ Красной армии, после чего выяснилось, что «люди нерусской национальности кое-где составляют до 30 процентов личного состава частей» [16, с. 97]. Гла-вупраформ в первой половине 1942 г. также имел лишь приблизительные цифры на этот счет, в чем честно и признался. Согласно полученной справке, к 1 апреля 1942 г. было при- звано 264 тыс. грузин, 236 тыс. азербайджанцев, 102 тыс. армян, 150 тыс. узбеков, 120 тыс. казахов и т. д. В мае 1942 г. планировалось призвать еще 100 тыс. узбеков и 50 тыс. казахов [23].
Для изучения состояния партийно-политической работы с нерусскими военнослужащими группы работников были направлены на Калининский, Северо-Кавказский и Сталинградский фронты. Они подтвердили «предположение начальника ГлавПУРККА: работа с бойцами нерусской национальности недооценивалась» [16, с. 97].
С лета 1942 г. по распоряжению Щербакова и под его непосредственным руководством велась разработка программного документа, нацеленного на организацию и упорядочение всей воспитательной работы с военнослужащими нерусской национальности. По воспоминаниям Н.В. Пупышева, работа над документом «давалась трудно»: «Работали мы коллективно, И.В. Шикин дважды докладывал проект начальнику ГлавПУ. И лишь на третий раз, с некоторыми поправками, директива была подписана» [16, с. 97]. Речь идет о директиве от 17 сентября 1942 г. № 012 «О воспитательной работе с красноармейцами и младшими командирами нерусской национальности», действовавшей на протяжении всей войны и регламентировавшей все стороны политико-воспитательной работы с военнослужащими нерусских национальностей. Эта работа была объявлена приоритетной для политорганов всех уровней. Политуправления фронтов и армий должны были наладить агитационную работу с этим контингентом, пропагандируя дружбу народов СССР. Для этого вводились внештатные должности заместителей политруков рот и агитаторов со знанием языков основной массы личного состава. Также директива требовала организовать переводы и публикацию газет, листовок, брошюр. Всему личному составу Красной армии воспрещались любые проявления национализма и неприязни по национальному признаку. Внедрение родных языков в повседневную политико-воспитательную работу, пожалуй, стало стержневым элементом директивы № 012 [8].
Кроме этой директивы последовали указания начальника военно-политического ведомства о сборе и популяризации материалов о подвигах воинов нерусской национальности, об организации национальных отделений при фронтовых курсах подготовки политсостава, о присылке из союзных республик части тиража газет, брошюр, книг и прочей печатной продукции для адресного распределения их в войсках и т. д. [5, с. 46].
А.С. Щербаков взял под контроль выполнение директивы № 012, особенно в войсках, действовавших на Кавказе – одном из участков советско-германского фронта, где осенью 1942 г., без преувеличения, решался исход войны. В октябре 1942 г., по его распоряжению, на Закавказский фронт была отправлена группа агитаторов ГлавПУРККА во главе с бригадным комиссаром В.П. Ставским. Группа провела более 100 агитационных бесед с бойцами и политработниками, одновременно знакомясь с состоянием партийно-политической и агитационно-пропагандистской работы. Бригада ГлавПУРККА, работавшая до 14 ноября 1942 г. в основном в войсках Северной группы войск Закавказского фронта, чьи войска более чем на 40 % были укомплектованы коренными уроженцами Кавказа [4, с. 235], оценила выполнение директивы № 012 как неудовлетворительное. Несмотря на категорический запрет, в штабах и окопах продолжало процветать пренебрежительное, шовинистское в своей сути отношение к нерусским бойцам. Агитационно-пропагандистская работа велась в отрыве от местного материала, пополнения из кавказских народов плохо интегрировались в воинский коллектив из-за языкового барьера и отсутствия внимания к ним со стороны командиров и политработников. Комиссия обратила внимание и на плохие бытовые условия. Директива № 012 в ряде национальных дивизий не выполнялась и даже не была доведена до командно-политического состава [9, с. 206; 21, с. 108–109].
Эти обстоятельства заставили Главное политуправление вновь активизировать работу, сделав акцент на улучшении быта бойца. 16 января 1943 г. вопросы материально-бытового обслуживания красноармейцев обсуждались на специальном заседании Совета военно-политической пропаганды при ГлавПУРККА под председательством А.С. Щербакова. Большое место в дискуссии было уделено бойцам нерусской национальности. 24 января 1943 г. чле- ну военного совета Закавказского фронта генерал-майору П.И. Ефимову и начальнику Политуправления фронта генерал-майору К.Л. Сорокину была направлена новая директива № 01 «О недостатках в агитационно-пропагандистской работе в Черноморской и Северной группах». В ней А.С. Щербаков вновь констатировал «крупные недостатки» в воспитательной и партийной работе в частях фронта: казенность подходов и оторванность от национального состава бойцов, широкое распространение националистических выпадов в их отношении, которое, в свое очередь, «порождает факты дезертирства, членовредительства и даже перехода на сторону врага наименее устойчивых бойцов нерусской национальности» [9]. В директиве особо подчеркивалось отсутствие заботы командиров и политработников о питании, обмундировании и условиях проживания в землянках бойцов нерусской национальности, в связи с чем указывалось на то, что «от того, как боец одет, обут и накормлен, как организован его отдых, во многом зависит боеспособность войск» [9, с. 208]. Кроме бытовой стороны дела, начальник ГлавПУРККА обязывал политорганы Закавказского фронта решительно пресекать все проявления национализма и шовинизма, усилить разъяснительную, пропагандистскую и просветительскую работу как с бойцами нерусской национальности, так и с русским личным составом.
В первой половине 1943 г. воспитательная работа с военнослужащими нерусской национальности развернулась в полную силу. Безусловно, положительное влияние оказывали грандиозные стратегические успехи Красной армии на южном участке советско-го-германского фронта: разгром вражеских армий под Сталинградом и изгнание противника с большей части территории Северного Кавказа, прорыв блокады Ленинграда. Все эти долгожданные события поднимали боевой настрой бойцов.
Продолжилась реализация директивы начальника Главного политуправления РККА № 012-1942 г. По распоряжению А.С. Щербакова, для работы с нерусскими военнослужащими в составе отдела агитации Управления пропаганды и агитации ГлавПУРККА было организовано отделение с политработниками-националами, среди которых были литературные и научные работники, преподаватели, аспиранты. Их задачей был сбор в войсках, изучение и обобщение опыта политико-воспитательной работы с нерусскими военнослужащими. Они делились опытом других фронтов, для чего проводили лекции и семинары для политработников и агитаторов. Работники отделения осуществляли квалифицированный перевод военной и пропагандистской литературы и периодики, в частности методического издания «Блокнот агитатора» [1, с. 10].
В марте и июле 1943 г. все фронтовые политуправления отчитывались заместителю начальника Главного политуправления генерал-майору И.В. Шикину о результатах реализации директивы № 069.
Своего рода апогеем партийно-политической работы с нерусскими военнослужащими стало проходившее в течение 20 дней в июле и августе 1943 г. в Москве совещание (сборы) фронтовых и окружных агитаторов, работавших с бойцами нерусской национальности, которое стало самым значительным за годы войны форумом для обмена опытом в этой области. В мероприятии участвовало 192 агитатора-фронтовика 24 национальностей. Все они являлись штатными работниками политорганов дивизий, армий и фронтов [12]. Готовясь к совещанию, Щербаков затребовал в Управлении агитации и пропаганды ГлавПУРККА подробную справку с объективной картиной политической работы с красноармейцами нерусских национальностей. 7 августа 1943 г. А.С. Щербаков выступил перед делегатами совещания, наметив пути развития воспитательной работы с нерусскими военнослужащими на завершающем этапе войны. Констатировав, что принципиальные проблемы уже преодолены, Щербаков настаивал на углублении этой работы, понимая под этим усиление гибкости и разнообразия методов и подходов («пусть форм [политработы] будет побольше и они будут разнообразнее»). Теперь эта работа должна была быть доведена до самых мелких и даже до единичных бойцов-националов в подразделениях, а также до национальностей, представленных в армии в относительно незначительных количествах, например марийцев, мордвинов, якутов, осетин и т. д. Среди сохраняющихся не- достатков Щербаков отметил формальное распределение литературы и прессы на языках народов СССР без учета национального состава войск, отдельные факты грубости и шовинистских проявлений со стороны русских командиров, слабую постановку работы по изучению русского языка и ряд других [24]. Однако в целом тон выступления Щербакова был оптимистичным, тем более что вновь советские войска добились большого успеха на фронте: шло контрнаступление на Курской дуге.
Кроме успехов на фронте политорганам сопутствовал еще один важный фактор: осенью 1943 г. был отсрочен очередной призыв молодежи 1926 г. р. коренных национальностей Средней Азии и Закавказья, а военнообязанные старших возрастов вовсе перестали призываться в Красную армию. Приток людей этих национальностей заметно сократился, а удельный вес в войсках падал: если 1 июля 1943 г. он составлял 8,55 % от всего личного состава Красной армии, то на 1 января 1944 г. – 6,35 %, а на 1 января 1945 г. – 4,45 %. В абсолютных значениях их количество упало с 988 тыс. человек в июле 1943 г. до 539,3 тыс. человек в январе 1945 г. [11, с. 234]. Таким образом, актуальность работы с новым пополнением отпала сама собой. В то же время остававшиеся фронтовики нерусской национальности набирались опыта и сами становились наставниками молодому поколению. Тем не менее специальная политико-воспитательная работа с военнослужащими нерусских национальностей велась вплоть до окончания войны [11, с. 234–236]. Н.В. Пупышев вспоминал об А.С. Щербакове: «В течение всей войны начальник Главного политуправления Красной армии держал в поле зрения вопросы воспитания воинов нерусской национальности. При инструктировании групп офицеров, выезжавших в войска, при заслушивании докладов руководителей политорганов на Совете военно-политической пропаганды, при личных встречах с политработниками из действующей армии он всякий раз интересовался состоянием агитации, глубиной ее воздействия на бойцов из союзных республик» [16, с. 186].
Выводы. Изучение документальной базы показало, что в годы Великой Отечественной войны содержание, формы и методы партийно-политической работы не были постоянной величиной. Они корректировались в зависимости от объективных и субъективных факторов. Среди последних одними из наиболее значимых были личные позиции руководителей военно-политического ведомства. В первый период войны жесткий централизм в работе партийно-политического аппарата становился причиной нередких пробуксовок, проявлений формализма, бюрократизма и равнодушия в работе с военнослужащими нерусской национальности. В значительной степени этот подход диктовал начальник Главного политуправления Л.З. Мехлис. Однако ему пришлось проявить гибкость и инициативность в Крыму, где он вплотную столкнулся с национальной проблемой.
Коренные изменения в постановке политико-воспитательной работы с нерусскими военнослужащими назрели к весне 1942 г., а были реализованы уже под руководством нового начальника военно-политического ведомства А.С. Щербакова. Он сумел подойти к решению накопившихся проблем системно и настоял на выполнении своих требований, несмотря на сильную инерцию на местах. Результатом стало постепенное выравнивание боевых качеств военнослужащих всех национальностей, чему способствовали и благоприятные объективные факторы: коренной перелом в войне, сокращение численности в войсках коренных уроженцев Средней Азии и Закавказья, приобретение военных навыков и боевого опыта военнослужащими нерусской национальности.