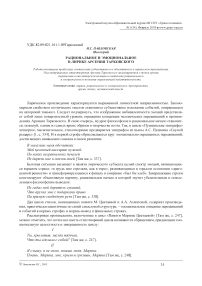Рациональное и эмоциональное в лирике Арсения Тарковского
Автор: Павловская Ирина Григорьевна
Журнал: Грани познания @grani-vspu
Статья в выпуске: 1 (54), 2018 года.
Бесплатный доступ
Работа посвящена проблемам соотнесения субъективного и объективного в лирическом произведении. Рассматриваемые стихотворения Арсения Тарковского анализируются с точки зрения выражения в них авторской позиции в контексте рационального и эмоционального познания окружающей действительности.
Лирика, рациональное и эмоциональное, пространство, время, топос, поэтический текст
Короткий адрес: https://sciup.org/14822655
IDR: 14822655 | УДК: 82.09:821.161.1.09Тарко6ский
Текст научной статьи Рациональное и эмоциональное в лирике Арсения Тарковского
Лирическое произведение характеризуется выраженной личностной направленностью. Закономерным свойством поэтических текстов становится субъективное изложение событий, опирающееся на авторский замысел. Следует подчеркнуть, что изображение амбивалентности эмоций представляет собой лишь поверхностный уровень отражения концепции человеческих переживаний в произведениях Арсения Тарковского. В свою очередь, мудрое философское и рациональное начало становится, пожалуй, одним из самых ярких образов в творчестве поэта. Так, в цикле «Пушкинские эпиграфы» четвертое, заключительное, стихотворение предваряется эпиграфом из пьесы А.С. Пушкина «Скупой рыцарь» [1, с. 334]. И в первой строфе обрисовывается круг эмоционально окрашенных переживаний, достигающих наивысшего накала в своем развитии:
В магазине меня обсчитали:
Мой целковый кассирше нужней.
Но каких несравненных печалей
Не дарили мне в жизни моей [Там же, с. 337].
Бытовая ситуация вызывает в памяти лирического субъекта целый спектр эмоций, начинающихся взрывом страха: «в грудь мне стреляли, как в тире», развивающихся в горьком осознании «драгоценной ревности» и трансформирующихся к финалу в смирение «был бы хлеб». Завершающие строки констатируют объективную картину, рациональное начало в которой звучит убедительным и осмысленным философским выводом:
Не гадал мой даритель лукавый,
Что вручил мне с подарками право
На прямую свободную речь [Там же, с. 338].
Два цикла стихов, посвященных памяти М. Цветаевой и А.А. Ахматовой, содержат произведения, практически идентичные по своей смысловой структуре, – эмоциональное описание переживаний и событий в первых строфах и мораль-вывод в финальных строках.
Рассматривая произведения, включенные в цикл «Памяти Марины Цветаевой» [Там же, с. 247], можно отметить, что почти все шесть стихотворений цикла начинаются обращением, придающим эмоциональную целостность и завершенность циклу:
I
Ты, крылатая, звезда падучая,
Что ты сделала с собой? [Там же, с. 247].
II
Я слышу, я не сплю, зовешь меня, Марина,
Поешь, Марина, мне, крылом грозишь, Марина [Там же, с. 248].
III
Друзья, правдолюбцы, хозяева
Продутых смертями времен [1, с. 248].
VI
А только памяти твоей
Из гроба научи, Марина! [Там же, с. 250].
Финальные строки, напротив, утверждают рациональную объективную оценку событий, пытаясь уравновесить таким образом уровень эмоционального, что не всегда удается по причине метафоричности образов в сочетании с эпитетами:
I
<…> идешь ко дну.
Так жемчужина опускается
В заповедную глубину [Там же, с. 247].
II
За черным облаком твое крыло горит [Там же, с. 248].
III
Со всей вашей правдой неправою
И праведной неправотой [Там же, с. 248].
IV
А дальше хозяйка судьба,
И переупрямит над Камой [Там же, с. 249].
V
Я отброшен тетивою
Войны, и глаз твоих я не закрою [Там же, с. 249].
VI
Как я боюсь тебя забыть
<…>и в твоем стихотворенье
Тебя опять похоронить [Там же, с. 250].
В контексте эмоционального стоит отметить, что мотив превращения как некоего преобразования в лирике Тарковского становится выражением максимального предельного накала чувств и переживаний, привносящих новое осмысление в такие попарно противопоставленные автором категории, как царь – раб, поэт – пророк, жизнь – смерть и др. Так, в стихотворении «Новогодняя ночь» [Там же, с. 278] звучит идея преображения:
Я не буду спать
Ночью новогодней.
Новую тетрадь
Я начну сегодня.
Ради смысла дат
И преображенья
С головы до пят
В плоть стихотворенья… [Там же, с. 279].
А в первом стихотворении цикла «После войны» [Там же, с. 218] возникает образ метаморфозы телесного облика человека, аналогичный росту и распространению дерева в пространстве; в результате меняется, преображается опыт дыхания:
И было это как преображенье
Простого счастья и простого горя
В прелюдию и фугу для органа [1, с. 218].
Третья строфа стихотворения «Когда под соснами, как подневольный раб...» [Там же, с. 173] отсылает к метаморфозе, которая происходит в греческом мифе с Гелиадами – дочерьми бога солнца Гелиоса и сестрами Фаэтона, не справившегося с колесницей своего отца и погибшего в результате этого. В мифе говорится о том, что, оплакав Фаэтона, его сестры превращаются в деревья, а их слезы – в янтарь. Два последних стиха служат прямым указателем на греческую мифологию:
Земля глотает кровь, и сестры Фаэтона
Преображаются и плачут янтарем [Там же, с. 173].
Понятие преображения может выражаться в различных категориях. В стихотворении «Малютка-жизнь» [Там же, с. 180] труд поэта, как и в стихотворении «Новогодняя ночь», – это воплощение человека в слово:
Я жизнь люблю и умереть боюсь.
Взглянули бы, как я под током бьюсь
И гнусь, как язь в руках у рыболова,
Когда я перевоплощаюсь в слово [Там же, с. 180].
Мотив преображения служит одной из основ эмоциональной составляющей поэзии Арсения Тарковского. Таким образом, можно отметить важную особенность лирики Тарковского – рациональное и эмоциональное в ней сочетается согласно авторскому замыслу. Создаваемые образы претерпевают определенные преобразования, воспроизводя различные этапы формирования лирического героя – от ипостаси человека до пророка, несущего в себе истину Слова.
Список литературы Рациональное и эмоциональное в лирике Арсения Тарковского
- Тарковский А.А. Белый день: стихотворения и поэмы. М.: ЗАО «Изд-во "ЭКСМО-Пресс"», АОЗТ «Изд-во "ЯУЗА"», 1997