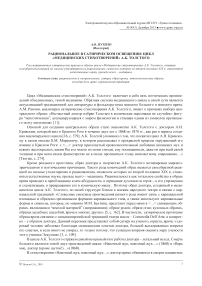Рациональное в сатирическом освещении: цикл «Медицинских стихотворений» А.К. Толстого
Бесплатный доступ
Рассматриваются сатирические приемы и образы цикла «Медицинские стихотворения» А.К. Толстого, ставшие своеобразной реакцией на засилье утилитаризма и рационализма, символом которых во второй половине XIX в. становятся естественные науки, прежде всего - медицина.
Рациональное и эмоциональное, сатира, образ врача, энтомологические образы, комедии дель арте, карнавальная традиция
Короткий адрес: https://sciup.org/14822429
IDR: 14822429
Текст научной статьи Рациональное в сатирическом освещении: цикл «Медицинских стихотворений» А.К. Толстого
В стихотворении «Навозный жук, навозный жук…» доктор прямо обвиняется в смерти пациентки:
Лукавый врач, лукавый врач!
Трепещешь ты не без причины
Припомни стон, припомни плач,
Тобой убитой Адольфины! [16, с. 388]
В тексте содержится характерный для карнавального типа юмора образ ложного целебного снадобья – «каломельные пилюли», которые и стали причиной смерти несчастной. Комментарием к тексту должно явиться указание – что такое каламель и какие заболевания лечили этим веществом: «В медицине XVIII – XIX вв. часто использовалась не сама ртуть, а каломель – хлорид ртути (I). Ее использовали в качестве глазной мази, для лечения венерических заболеваний, особенно сифилиса, как желчегонное и слабительное» [8]. Пилюлями лечили заболевания пищеварительного тракта, что возвращает нас сфере телесного низа – «веселой материи», характерной для народного смехо-вого творчества.
Важнейшей темой в анализируемом произведении становится месть скончавшейся пациентки Адольфины, которая преследует врача:
С тех пор моя летает тень,
Вокруг тебя жуком навозным [16, с.388]
Характерна также комически-пародийно трактуемая тема совести, которая мучает «лукавого врача»:
О врач, скажи, твоя мечта
Теперь какую слышишь повесть?
Какого ропот живота
Тебе на ум приводит совесть? [Там же]
Для карнавальных текстов типична бинарная оппозиция жизнь / смерть, граничащая с темой бессмертия и воскрешения, в нашем случае она реализуется как посмертное перевоплощение: «Гротескный образ, – пишет М.М. Бахтин, – характеризует явление в состоянии его изменения, незавершенной еще метаморфозы, в стадии смерти и рождения, роста и становления» [1, с. 31]. Превращение больной Адольфины после смерти в навозного жука создает комический эффект и отодвигает страх смерти на второй план: возникает десакрализация темы смерти и загробной жизни. Интересно отметить, что выбор имени пациентки, так же связан с образом жука, так как Ламприма Адольфина – название жука из семейства Рогачей.
Одной из причин, по которой автор облекает дух покойницы в облик навозного жука, может быть сравнение по характеру звуков: шума, производимого навозным жуком во время полета и «ропота живота». Образ навозного жука в соответствии с мифопоэтическими традициями резкой оценочнос-ти не несет, обладает нейтральной топикой и его определяющей чертой является созидающее начало [2, с. 221]. Тема, как ее называет М.М. Бахтин, матерально-телесного низа, в нашем случае выражена через навоз и ассоциативный ряд к нему. Жук, в которого материализовалась по сюжету сатиры Адоль-фина, имеет дело в основном с навозом, в нем живет, размножается и им же питается, отчего и имеет такое название. В стихотворении А.К. Толстого жук-Адольфина и связанная с ним табуированная тема его среды обитания накладывает определенный отпечаток на образ преследуемого врача, наделяя его сниженной семантикой.
Образ лукавого врача из стихотворения «Навозный жук, навозный жук…» непосредственно связан с образом доктора из произведения «Отрывок из поэмы “Медик”» (Лукавый врач…) К. Пруткова – литературной маски, одним из создателей которой являлся А.К. Толстой. Произведение представляет собой пародирование позитивистского, прагматического отношения к пациентам: врач, которого ждет умирающая «тетка сторожа», задерживается в пути – в итоге пациентка умирает, не дождавшись лекарств. “Злобный медик” равнодушно констатирует ее смерть и требует оплаты за визит. Цинизм становится объектом пародирования, что непосредственно связано с христианским мировоззрением авторов-создателей литературной маски, они утверждали абсолютное главенство духовного начала в человеке, тем самым, опровергая возможность телесного здоровья без нравственного здоровья души и критикуя пользу рационализации жизни. Именно поэтому врач назван «лукавым», что неизбежно вызывает ассоциации с дьявольским началом [10, с. 88]. Жанр пародии, в котором создано произведение К. Пруткова, добавляет новые смысловые оттенки к образу медика, утилитаризм приобретает инфернальные черты. Авторство данного произведения не установлено, как и год его создания, известно только, что опубликовано оно было впервые в 1876 г. в приложении к журналу «Современник» [12], т.е. позже создания стихотворения «Навозный жук, навозный жук…». Тем не менее, не зная доподлинно год создания, невозможно установить, создано ли стихотворение Толстого под влиянием совместной работы с братьями Жемчужниковыми или же А.К. Толстой является автором обоих стихотворений, однако мотивная связь данных произведений не вызывает сомнения.
В стихотворении «Верь мне, доктор (кроме шутки!)…» (1868), мотив смерти является текстообразующим, сатира завязывается вокруг спора пономаря и врача, приведшего к смерти последнего. Стоит отметить, что в комедии дель арте по причине цензуры и феодально-католической реакции не касались темы церкви и образов священнослужителей. Однако в других произведениях западноевропейской литературе сопоставление духовных лиц и ученых, а так же сатирическое прочтение образа церковного причта широко использовалось в антицерковной литературе, например, в поэзии вагантов, в комедиях Ж.-Б. Мольера, у которого, в частности, оно приобрело такую форму воплощения, как образ «святоши». А.К. Толстого также «очень забавила пара "врач – священник"»: лекарь тела – лекарь духа. В обиходе большинства людей телесное врачевание связывалось тогда с пилюлями, клизмами, пиявками и прочей незатейливой методой, а духовное целительство – с церковно-приходскими увещеваниями, наставлениями на путь истинный. Надо иметь в виду, что по своему культурному уровню вообще мало кто мог идти в сравнение с одним из первых поэтов России. Вот он и оттачивал на духовенстве и врачах юмористический дар» [12, с. 283].
Так, в анализируемом стихотворении образ врача дается на ряду с образом пономаря, объединяет их сатира на глупость. Сатирическая реализация для каждого из образов имеет нюансы, так, глупость пономаря – это невежество, а врача – упрямство и скептицизм. Данные образы наделены полярными характеристиками в аспекте соотношения рационального (врач) и эмоционального (пономарь). Недаром пономарь обращается к доктору со словами: «Верь мне, доктор». Вера – иррациональная категория.
Как ни странно, но врачу автор в данном произведении уделяет меньше внимания, чем пономарю, образ медика обрисован буквально одним катреном:
Врач, скептического складу,
Не любил духовных лиц
И причетнику в досаду
Проглатил пятьсот яиц [16, с. 389]
Единственная характеристика врача находится в сфере категорий рациональности – «скептического складу», имеется в виду склад ума. Слово «ум» опущено в данном обороте специально, все категории ума в данном стихотворении намеренно не используются, тем самым подчеркивается его отсутствие у героев. Обратимся к семантике слова «скептический». В разных словарях находим похожие его трактовки: ‘ничему не верящий без анализа’ [6, с. 571], ‘недоверчивый, подозрительный’ [9, с. 602], ‘недоверчивый, полный сомнения’ [7, с. 568], ‘ничему не доверяющий без проверки’ [18, с. 512]. Резко негативной оценки данное описание не несет: учитывая неправдоподобность заявления пономаря, подозрительность, свойственную доктору, читатель воспринимает нейтрально. На первый взгляд, врач кажется жертвой церковников, спровоцировавших его на абсурдное действие – съесть пятьсот яиц, вследствие чего врач умирает, а «духовные же лица», которых врач так не любит, остаются жить и ут- верждать собственную глупость. Авторское осуждение скептицизма можно почувствовать благодаря абсурдности и гиперболизации приводимого врачом доказательства собственной правоты. О.Л. Чер-норицкая в работе «Поэтика абсурда» пишет: «Странные, с точки зрения обыденной логики, поступки литературных персонажей, как правило, результат намерения автора применить метод доказательства от противного, чтобы лишний раз подчеркнуть бессмысленность и «невозможность» идеи, персонифицируемой этим персонажем» [17, с. 58]. Следовательно, безумный поступок врача характеризует несостоятельность его убеждений.
Однако, негативное отношение врача к причту оправдывается автором, благодаря дополнительным характеристикам последних:
Холм насыпан. На рассвете
Пир окончен в дождь и грязь,
И причетники мыслете
Пишут, за руки схватясь [16, с. 389]
Комическое снижение образа вызывает характеристика поминального обеда – «пир». Церковный причт вместо традиционных в христианской культуре скорбных поминок с постом и молитвой по усопшему устраивает нечто более похожее на языческую тризну, после которой они возвращаются, «выписывая мыслете». Вот как об этом пишет А.Е. Смирнов: «Напившиеся на поминках врача причетники бредут, схватившись за руки, по грязи, чтобы не упасть. Качаясь и шарахаясь в разные стороны, они выписывают ногами букву «М», которая в старину произносилась как мыслете. Здесь двойной эффект. Во-первых, буква «М» зрительно воспроизводит походку пьяных причетников: вперед – наискось назад – наискось вперед – снова назад… А во-вторых, какое уж тут «мыслете», какая мысль?.. » [13, с.281]. Последнее утверждение исследователя возвращает нас к предмету сатирического осмеяния – глупости и подтверждает высказанную нами ранее мысль о преобладании абсурда в анализируемых стихотворениях.
Еще одна не маловажная черта характера доктора – его болтливость – раскрывается в стихотворении «Берестовая дудочка». В характеристике образа доктора как персонажа комедии дель арте читаем: «Голова доктора вмещает в себя довольно много обрывков учености, но в ней отсутствует логика. Поэтому, когда содержимое этой странной головы начинает сыпаться в виде речи, построенной по всем правилам риторики, – получается фейерверк прописных афоризмов, лишенных какой бы то ни было связи и самого элементарного смысла» [3, с. 109]. Данное рассуждение объясняет, как связаны между собой игра на дудочке и мечты врача в которых перемешиваются «медицинские материи и любовь и красота» [11].
Врач наигрывает на дудочке «бессознательный мотив». Интересна семантика слова бессознательный, одно из значений, определяемых словарем – ‛не направляемый и не контролируемый сознанием’ [4, с. 83], А сознание в свою очередь трактуется, как «человеческая способность идеального воспроизведения действительности в мышлении, <…> высшая форма психического отражения, свойственная общественно развитому человеку и связанная с речью…» [14, с. 1232]. Как следует из данных словарных статей, сознание – способность человека логично мыслить, рассуждать, а его отсутствие – неспособность к такого рода действиям. Отсутствие осознанности в музыкальном мотиве, который наигрывает доктор, соответственно, характеризует его образ.
Важна для понимания сатирической направленности стихотворения символика образа скворца. Скворец – это певчая птица, у которой развито звукоподражание. Теперь становится понятна художественная функция образа скворца – он мастер в подражании, но врач оказался гораздо виртуознее в бессмысленном бессознательном повторении, поэтому и позавидовал скворец. А. Смирнов иначе интерпретирует смысл этого образа: «под завистливым скворцом <…> автор изобразил себя – песнетворца ревнующего к дудочке врача так очаровавшей “птичек”» [13, с. 283]
В работе А.К. Дживелегова «Итальянская народная комедия» об образе Доктора сказано: «Профессиональный момент в характере Доктора выдвигается на ряду с его особенностями как человека. Он старик, <…> богат, скуп и падок до женщин» [3, с.110]. В цикле А.К. Толстого сладострастие Доктора осмеивается в первом стихотворении цикла – «Доктор божьей коровке …». Данное стихотворение затрагивает тему совращения невинной, проникнуто различными категориями эмоционального (стыд, страх, любовь, вера) и соответствует поэтике абсурда. Доктора иррационален: он не только проявляет недвусмысленные чувства по отношению к божьей коровке, он верит в «бесовское наваждение» и чудеса:
Подстегнул меня, знать, бес! –
Сколько в мире есть чудес! [16, с.387]
Доктор назначает рандеву божьей коровке, что само по себе алогично, но с этого момента сюжет развивается соответственно созданной автором художественной условности – насекомое может быть любовником человека. Более того, божья коровка ставится в ряд с другими представительницами прекрасного пола:
Дщери нашей бабки Евы!
Так-то делаете все вы!
Издали: «Mon Coeur, mon tout», –
А пришлось начистоту,
Вам и стыдно, и неловко [Там же]
Образ божьей коровки наполнен положительными и высокими коннотациями, она связанна с высшим Божественным миром:
Кем наставлена, не знаю,
К чудотворцу Николаю
(Как то делалося встарь)
Обратилась Божья тварь [Там же]
Божья коровка у всех народов мира пользуется большой симпатией и любовью. Считается, что она может выполнять роль посредника между разными мирами – миром живых и миром мертвых. Так и в анализируемом произведении Божья коровка спасается благодаря божественному чуду, возникшему после ее молитвы «чудотворцу Николаю».
Последнее стихотворение медицинского цикла А.К. Толстого – «Муха шпанская сидела…» – повествует нам о любовных похождениях, как становится понятно из уже ранее процитированного нами письма к Б. Маркевичу. Однако основной темой стихотворения является месть шпанской мухи доктору:
Для таинственного дела
Доктор крался в темноте.
Вот присеем он у сирени,
Муха, яд в себе тая
Говорит: «теперь для мщенья
Время вылучила я!»
Уязвленный мухой больно,
Доктор встал, домой спеша
И на воздухе невольно
Выкидает антраша [16, с. 390]
Смысл данного стихотворения раскрывается с процессе анализа образа насекомого. Шпанские мухи живут на ясене, сирени, бирючнике, жимолости, бузине, клене, тополе, трубоцвете и розе, пита- ясь мякотью листьев этих растений. До восхода Солнца, пока они сидят неподвижно на деревьях и кустарниках, их стряхивают на землю, собирают, высыпают в бутылки и закупоривают, после чего они довольно скоро погибают [19, с. 247]. Таким образом, Шпанская муха мстит доктору за регулярный отлов и уничтожение, сирень – это реалистичный элемент, описание среды обитания данных насекомых. Пояснить причину сбора доктором шпанских мух может следующий медицинский факт: порошок шпанских мух уже издавна пользуется репутацией средства, возбуждающего половое влечение. Это объясняет авторскую ремарку и возвращает нас к теме материально-телесного низа и характерного для образа доктора порока сладострастия.
Образ доктора, созданный в медицинском цикле А.К. Толстого, соответствует карнавальной поэтике народного театра, он символизирует собой глупость, пошлость и дополняется характерной для творчества поэта антинигилистической направленностью, являясь сатирой на рациональность и утилитаризм. Одним из художественных средств, актуализирующих данную семантику, является обращение энтомологическим образам. Образы насекомых акцентируют различные стороны характера доктора: его глупость, шарлатанство, распутство.
В целом анализируя образы животных, следует отметить, что их положение данном цикле как бы над человеком. Они имеют право карать грешника врача (навозный жук вызывает муки совести у врача – убийцы Адольфины, шпанская муха мстит не ожидающему этого доктору), давать ему советы (скворец, говорит, что «врачу была б приличней оловянная труба») и связываются с Богом через Его служителей (божья коровка молится чудотворцу Николаю). Возможно, это является следствием фольклорной традиции, в которой «хтонические существа насекомые олицетворяют собой дикую природную мощь земли подземное царство» [15, с. 338], но, учитывая специфику поэзии А.К. Толстого, стоит предположить, что животные олицетворяют абсурдность бытия.
Список литературы Рациональное в сатирическом освещении: цикл «Медицинских стихотворений» А.К. Толстого
- Бахтин М. М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса. М.: Худож. лит., 1990.
- Ватутина А.С. Постмодернистский образ насекомого как квинтэссенция «высокого» и «низкого»: Д. Пригов, В. Пелевин, Л. Петрушевская.//Вестник Нижегород. ун-та им. Н.И. Лобачевского, Филология. Искусствознание. 2014. № 2 (3). С. 219 -223
- Дживелегов А.К. Итальянская народная комедия. М.: Издательство академии наук СССР. 1954.
- Ефремова Т. Ф. Новый словарь русского языка. Толково-словообразовательный. М.: Русский язык, 2000
- Загибалова М. А. Смеховое начало как «стержневая» категория карнавальности в концепции М.М. Бахтина//Вестник Волгогр. гос. ун-та. Сер. 7: Философия. Социология и социальные технологии. Вып. № 1. 2008 С. 162-171
- Михельсон А.Д. Объяснение 25000 иностранных слов, вошедших в употребление в русский язык, со значением их корней.
- Павленков Ф Словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка. 1907.
- Паевский А. Убийственная медицина . URL: http://chrdk.ru/weekend/2015/8/20/lekarstava_ubijtsy (дата обращения: 18.05.2015).
- Попов М. Полный словарь иностранных слов, вошедших в употребление в русском языке. 1907.
- Путило А.О. К вопросу о жанре отрывка в творчестве К. Пруткова Электронный научно-образовательный журнал ВГСПУ «Грани познания». №3(37). Апр. 2015.
- Ранчин А.М. Юмор и сатира в поэзии графа А.К. Толстого . URL: http://www.portal-slovo.ru/philology/43356.php (дата обращения: 10.11.2015).
- Свисток. Собрание литературных, журнальных и других заметок. Сатирическое приложение к журналу «Современник». 1859-1863. Сер.: Литературные памятники. М.: Наука, 1981.
- Смирнов А. Козьма Прутков. М.: Молодая гвардия, 2011. Сер.: «Жизнь замечательных людей».
- Советский энциклопедический словарь. М.: Советская энциклопедия. 1984
- Терновская О.А. К описанию народных славянских представлений, связанных с насекомыми: Одна система ритуалов изведения домашних насекомых//Славянский и балканский фольклор: Обряд и текст. М.: Наука, 1981.
- Толстой А. К. Собрание сочинений: В 4 т. М., 1963. Т. 4.
- Чернорицкая О.Л. Поэтика абсурда. Классика. Т. 1 Вологда, 2001.
- Чудинов А.Н. Словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка. 1910.
- Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. Список статей ЭСБЕ: Мп-Му. т. XX, Мухи шпанские. С. 247-248