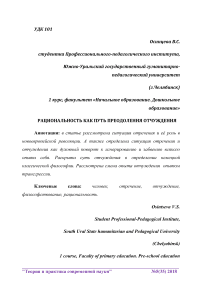Рациональность как путь преодоления отчуждения
Автор: Осинцева В.С.
Журнал: Теория и практика современной науки @modern-j
Рубрика: Основной раздел
Статья в выпуске: 5 (35), 2018 года.
Бесплатный доступ
В статье рассмотрена ситуация отречения и её роль в новоевропейской революции. А также определена ситуация отречения и отчуждения как духовный поворот к игнорированию и забвению всякого опыта себя. Раскрыта суть отчуждения в определении немецкой классической философии. Рассмотрена смена опыта отчуждения опытом трансгрессии.
Человек, отречение, отчуждение, философствование, рациональность
Короткий адрес: https://sciup.org/140273358
IDR: 140273358
Текст научной статьи Рациональность как путь преодоления отчуждения
Student Professional-Pedagogical Institute,
South Ural State humanitarian and Pedagogical University
(Chelyabinsk)
-
1 course, Faculty of primary education. Pre-school education
________R__A_T_I_ONALITY AS A WAY OF OVERCOMING ALIENATION
Новоевропейское философствование, пройдя фазу революции XVIXVII вв., осуществляет первую попытку очищения образа человека от мистического налета. Человек определяется как открытая в проявлении и деятельности субстанция, независимая и самодостаточная. Мораль, воля, свобода, ответственность становятся лишь ее необходимыми акциденциями. Разум и сердце, фиксируемые античной и христианской мыслью как основания человечности, предстают как самодостаточные источники ее формирования. Однако внутри самой человечности начинает выделяться руководящий принцип, характеризуемый как «первый среди равных» — следование должному. В данном отношении М. Фуко справедливо замечает, что складывание рационального подхода к себе, требует от человека внутреннего пересмотра и выстраивания своеобразной иерархии духовного мира, выявления ограничений. Макс Вебер заостряет вопрос: если кто-то хочет действовать рационально и строить свои действия в соответствии с истинными принципами, от какой части себя он должен отречься? [1, с. 99].
В приобретении опыта «отречения» и состоит корень новоевропейской революции, развиваемый в дальнейшем неклассической и постнеклассической парадигмами. Намеренный уход от понятия диалектического отрицания, связан с отведением ему роли абстрактнотеоретической формы. Чтобы сфокусировать внимание на содержательной стороне антропологических сдвигов, используются и углубляются понятия «отречение» и «отчуждение».
В XVI-XVII вв. ясность, строгость, поиск аподиктических оснований в мышлении определяются как новые критерии для фиксирования и оценки человеческой самости. Таким образом, субъектность формируется как открытая область самопознания, горизонт «освещенности», предсказуемости, контроля. Правда, роль ее изначально латентна, ибо выставлен к обозрению объект — строго заданный рацио, очерченный методами, «наброском» сознания на область ожидаемого в «ином».
Ситуация «отречения» — есть духовный поворот к игнорированию, забвению всякого опыта себя, который не может быть отрефлексирован или зафиксирован мыслью. Рациональностью, прежде всего, изгоняется мистический ужас и страх перед собственной сокрытостью, тайной. В нее входит наблюдение, опыт себя, направляемый, ожидаемый, извлекаемый из собственного контроля. «Слава науки и рациональной системы, пытающейся, в крайних своих проявлениях, избавиться от догматичности, приобретя взамен тотальность, — вот сила века Просвещения» [2, с. 122]. Практики «отречения», изъятия, на первый взгляд, выступают чистой противоположностью практикам, например, античной философии: анамнезиса («припоминания»), эпохе («оборачивания») и пр.;
христианской аскезы («собирания себя в целое»). На самом же деле, скорее подразумевают стремление посредством абстрагирования сфокусировать внимание на одних сторонах самости, отодвигая в сторону другие, или смещая их значимость. Однако рациональное абстрагирование, или наблюдение отнюдь не случайно занимают привилегированное положение в научном познании. Их метода вытекает из самого способа так «выставить», прежде всего, человеческую сущность. (Следствием этого является фаза нигилизма или своеобразный опыт «чистого» ее снятия в абстрагировании, идеализации).
«Отчуждение», определенное немецкой классической философией (Г. Гегель, Л. Фейербах и др.), соответственно, помещает рационализм в онтологическое поле. Здесь фиксируется достижение духом последующей стадии превращения. Она связана со способностью регламентировать, оценивать, отделять себя от своих действий: труда, творчества, любви и пр. вопрос о возможности данного разделения был поставлен еще христианской мыслью через философское размышление об акте грехопадения. Именно грехопадение фиксирует демаркацию сущности и существования человека, по природе и истинному назначению неразделимых, собранных в проекте самой жизни.
Однако новоевропейской революцией событие «отчуждения» в человеке сущностного (внутреннего) и личностного (внешнего) планов закрепляется и устанавливается как должное. Познавательные, социальные, производственные, потребительские и другие практики, вводящие их в соотношение, взаимодействие, становятся постепенно главнейшими в культуре. «Рациональное грехопадение», узаконенное мыслью, или разъятие личности на стороны (психологическую, социальную, телесную и пр.), определяют саму возможность ее саморазвития, самодвижения. Не случайно, Фейербах именно через «отчуждение» обосновывает существование религиозных пределов, показывая рождение идеи Бога через человека (тайна теологии пребывает в субъекте).
Более того, с отчуждением связана напрямую идея права и его передачи [3], где воля выступает через отрицание, как нежелание владеть, нести ответственность и пр. Отчуждение формирует важнейшее понятие марксистской философии — «собственное», перетекающее в абстрактную «собственность». «Собственное» — принадлежащее мне по праву, но способное быть отчужденным, подаренным, отданным. История развития человека превращается в проект становления «собственника». «В процессе освобождения из своей природной непосредственности человек становится самим собой, т. е. становится собственником самого себя, т. е. свободы, религии, нравственности» [3].
Введение рационального принципа в отношение к самому себе, особым образом определилось и в языке, способах коммуникации, социальном действии и пр. Границы моего языка означают границы моего мира, отмечает в своих произведениях Л. Витгенштейн. Все, о чем может быть сказано, предстает ясно и отчетливо, о том, о чем невозможно говорить, следует молчать. В этом опыте практикуется как «отречение», так и «отчуждение». Само слово позволяет намекнуть на необъективируемые «островки» человеческого духа, уходящие в нерационализируемое. Их открывает философия жизни, в которой иррациональная природа прорывается в символах, сновидениях, архетипах, запретах, но уже не наделяется сакральностью священных смыслов. Именно на этом пути самость, поставленная способом рациональности, сталкивается с телесностью. Доступ к ней становится возможен через те же абстрагирование, наблюдение, контроль. Данные практики ведут к социально фиксируемому опыту сексуальности, медицины, тюрьмы — полю смыслов, отнюдь не случайно, актуализированных философией М. Фуко. Уже, сегодня, жизнь оказывается полностью вовлеченной в процесс творения телесности, а субъект преобразован в творческую силу, конституирующую данный процесс: «...жить — значит последовательно принимать участие в организации нового тела, которое способствует исключительному творению истины», — отмечает А. Бадью [4, с. 77].
Философские идеи структурализма и постструктурализма XX-XXI вв. уже не оставляют места поискам человечности, ставя под вопрос саму определенность субъекта. Сомнение и подрыв могущества языка, с его структурой линеарного письма, выстроенностью текста, логики возникает именно тогда, когда субъект предпринимает попытку уйти из его пределов. Опыт отчуждения сменяется опытом трансгрессии. Последняя открывает место свершению, так называемого, «опыта-предела», ставя субъекта перед самим собой вне практик проговаривания, письма, означивания. Язык демонстрирует возможность бессубъектности в молчании, нарастании «шума» бессмыслицы или неартикулированного слова. Сама выговоренность отчуждается от субъекта. «Настоящее изменение — не становление, но разрыв, чистая дискретность» [4, с. 79].
Но субъект и человек еще не разъяты на части окончательно, хотя весь опыт XX в. с его двумя мировыми войнами, культурными и религиозными ниспровержениями, говорит об обратном. Какова же сегодня интенция философской антропологии и стоит ли еще в ней вопрос о самости, открытый античной мыслью? Быть может в этом искании больше праксиса, или смещения в поле лингвистики (М. Фуко)? Исчерпала ли себя рациональность? Как бы ни были поставлены данные вопросы сегодня, они не находят главного — истины человека. И потому поиск человеческого продолжается. «Философия должна выявить возможность истинной жизни», — пишет А. Бадью [4, с. 80] уже в XXI веке. И этот посыл демонстрирует глубинную диалектическую связь обретенного и еще не обретенного опыта о человеке.
Список литературы Рациональность как путь преодоления отчуждения
- Фуко М. Технологии себя // Логос. - 2008. - № 2. - С. 96-122.
- Ромащенко М. А. Понятие другого в философии либертинизма // Фундаментальные и прикладные исследования в современном мире. - 2013. - № 3. - С. 121-126.
- Матвейчев О. А. Понятие отчуждения у Гегеля, Фейербаха и Маркса. - Режим доступа: https://public.wikireading.ru/24624 (дата обращения: 14.02.2017).
- Бадью А. Истина тел и языков // Кризис сознания / А. Швейцер, К. Манхейм, Р. Мертон, Г. Маркузе, Ж. Делёз, А. Бадью, Э. Фромм и др. - М.: Алгоритм. 2009. - С. 67-81.