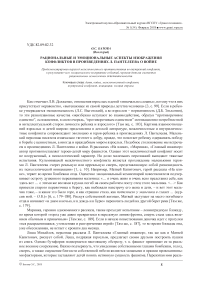Рациональные и эмоциональные аспекты изображения конфликтов в произведениях Л. Пантелеева о войне
Автор: Батова Ольга Сергеевна
Журнал: Грани познания @grani-vspu
Статья в выпуске: 1 (54), 2018 года.
Бесплатный доступ
Продемонстрирован переход межличностного противостояния во внутренний конфликт, в результате чего эмоциональное восприятие событий героями-детьми сменяется рациональным осмыслением действительности.
Дети, война, межличностный конфликт, внутренний конфликт, инициация, эмоция страха
Короткий адрес: https://sciup.org/14822666
IDR: 14822666 | УДК: 82.09:82.32
Текст научной статьи Рациональные и эмоциональные аспекты изображения конфликтов в произведениях Л. Пантелеева о войне
Маринка, героиня одноименного рассказа, также проходит испытание – ленинградскую блокаду, во время которой «город уже давно превратился в передовую линию фронта, смерть стала здесь явлением обычным и привычным» [Там же, с. 189]. Если в начале повествования девочка идет с прогулки «вся раскрасневшаяся, утомленная и разгоряченная игрой» [Там же, с. 187], то во время блокады она, уже обессиленная, не встает с кровати два месяца.
Леша Михайлов, персонаж рассказа Л. Пантелеева «Главный инженер», так же как и Матвей Капитоныч, рискует собой. Леша, подражая взрослым, предлагает своим друзьям построить пушки из снега. Однако бутафория подвергается настоящему обстрелу, т. к. фашист принимает ее за реальное военное сооружение. Важно подчеркнуть, что увиденные собственными глазами бомбежки, голод, смерть, а также ощущение близости собственной гибели являются мощными и яркими провокативны-ми факторами, которые заставляют детей понять истинную сущность фашизма. Пережитая ими реаль- ная или ирреальная смерть, безусловно, отражается на умственном и духовном развитии героев-детей. Как правило, персонаж Л. Пантелеева ищет эмоциональный выход из противостояния врагу, «следует порывам чувств и желаний» [4, с. 165]. У детей, конечно, мало жизненного опыта, поэтому они не всегда рационально представляют, к чему могут привести их действия. Достаточно вспомнить, как Маринка в начале войны даже не догадывается, что зашедший в ее дом фашист может представлять настоящую угрозу, поэтому она задорно, воспринимая происходящие события как игру, «в которой немцу уделялась очень скромная и пассивная роль – мишени» [6, с. 189], начинает перечислять различные предметы, которые можно бросить во врага. В начале блокады немцы были для девочки «чем-то вроде трубочистов или волков, которые рыщут в лесу и обижают маленьких и наивных красных шапочек. <…> И страх был не настоящий, а тот, знакомый, каждому из нас, детский страх, который вызывают в ребенке сказочные чудовища – всякие бабы-яги, вурдалаки и бармалеи…» [Там же, с. 188–189]. Рано повзрослев в кризисной ситуации, Маринка понимает: чтобы перестать бояться немцев и победить их, необходимо найти силы побороть собственный страх. Таким образом, с одной стороны, суровые будни войны лишили ребенка детства, а с другой – помогли ему преодолеть себя. Теперь на вопрос рассказчика, что бы она сделала, если фашист вошел в ее комнату, героиня отвечает, что укусила бы его. Маринка трезво оценивает свои силы, рационально находит границу своих возможностей, принимая это решение.
Эмоционально, как игру, воспринимает немцев и Леша Михайлов, который предлагает построить ребятам снежную крепость, не думая о том, что фашисты начнут стрелять по-настоящему. «На следующий день ребята с утра достраивали свою крепость, когда над их головами в безоблачном зимнем небе появился старый новодеревенский знакомый «хеншель-126». На этот раз он прилетел очень кстати. Играть стало еще интереснее » (курсив мой. – О.Б. ) [Там же, с. 203]. Впоследствии Леша, как и Маринка, проходит ряд испытаний. Пережитая бомбежка вызывает у мальчика страх. Новый виток страха появляется, когда ребенок осознает, что его могут отдать под трибунал, – на это указывает описание мимики и жестов героя после прихода красноармейца: у него «не попадали в рукава руки», «зубы у него все-таки слегка стучат и голос дрожит» [Там же, с. 207]. Затем подросток проходит испытание реальной – при обстреле он мог погибнуть сам, а также ирреальной смертью – Леша не знает, куда пропал при бомбежке его друг Валька. Все эти переживания приводят к появлению у героя подсознательного чувства вины, хотя ребенку сложно признаться в своих чувствах. В его внутреннем Я сталкиваются разнонаправленные желания, мы видим конфликт «стремления – избегания», когда один и тот же объект одновременно и притягивает, и отталкивает. С одной стороны, мальчик хочет во всем признаться: Леша «уже собирался пойти на батарею и сказать, что это он виноват, а не Валька…» [Там же, с. 205], а с другой, – предчувствуя реакцию Валькиной матери, он не может найти в себе силы сказать правду и обманывает женщину. Леша «успокаивал ее, говорил, что видел Вальку “своими глазами”, что он жив, что его пригласили в гости зенитчики и угощают его там чаем или галетами» [Там же, с. 204–205]. Чувство вины ярко раскрывается во внутреннем монологе Леши: «Ведь это ж я виноват, – думал он. – Это я все выдумал – с этой дурацкой крепостью. А Валька даже не строил ее. <…>» [Там же, с. 205]. Чтобы искупить свою вину, мальчик решает убежать к партизанам. Постепенно он начинает понимать, что провинился не только перед Валькой: «А ведь рядом не только батарея. Тут и невоенные объекты – жилые дома, живые люди. – Товарищ полковник! – чуть не плача, перебил его Леша. – Да разве ж я не понимаю?!» [Там же, с. 210]. Пережитые испытания помогают герою разрешить внутренний конфликт: «Тогда все в порядке, – сказал Леша. <…>» [Там же, с. 211]. Таким образом, ребенок, стремительно повзрослев, вынужден взять на себя ответственность и руководить в дальнейшем сооружением «лжекрепостей».
Матвей Капитоныч, в отличие от Маринки и Леши, осознает, что его действия могут привести к собственной смерти: «Ну что ж! Конечно, могут. Всякое бывает. Могут и убить. Тогда что ж... <…>» [Там же, с. 184]. Как и Маринке, маленькому герою бывает страшно, в чем он и признается рассказчику: «Вы бы ночью сегодня поглядели, что было. Вот это да!», «Что? Бомбежки-то? Конечно, часто. У нас тут вокруг батареи. Осколки так начнут сыпаться, только беги» [6, с. 183]. Это понимание основывается и на том, что в памяти ребенка еще свежи воспоминания об умершем отце. О тяжелом эмоциональном состоянии свидетельствует речь героя, а именно его короткий хриплый ответ «Ага» [Там же, с. 184] на вопрос о том, погиб ли здесь не так давно его отец. Но впоследствии суть «переживаемой информации забывается, а ее эмоциональные, двигательные, вегетативные и психосоматические проявления могут сохраняться, проявляясь в навязчивых движениях и состояниях» [7], поэтому объяснимо, почему у Матвея в руках «на одно мгновение весла дрогнули (курсив мой. – О.Б.)» [6, с. 184], когда он услышал вопрос об отце. Речь и невербальное поведение героя-ребенка «в символической форме отражают связь между реальным поведением и подавляемой информацией», что является естественной формой психологической защиты, проявляющейся «в забывании, блокировании неприятной, нежелательной информации» [7]. Несмотря ни на что, ребенок находит в себе силы победить фобии и самостоятельно делает выбор – продолжить дело погибшего отца. О недетской способности взять на себя ответственность и лично принять участие в борьбе с фашистами свидетельствует речь героя: «Бойся не бойся, а уж если попадет, так попадет. Легче ведь не будет, если бояться?» [6, с. 183].
Следует заметить, что маленькие герои Л. Пантелеева верят в победу Добра. Матвей Капитоныч, например, предполагая, что если его заденет осколком, уже решил – его дело сможет продолжить младшая сестра: «<…> Тогда, значит, придется Маньке за весла садиться, <…> она хоть и маленькая, а силы-то у нее побольше, чем у другого пацана. На спинке Неву переплывает туда и обратно» [Там же, с. 184]. Маринка тоже верит в Победу: «<…> Вот всех немцев перебьют, тогда и кончится…» [Там же, с. 192]. Эта вера помогает ей пережить блокаду и даже найти в себе силы станцевать, «а это очень трудно держаться на одной ноге: тот, кто пережил ленинградскую зиму, поймет и оценит это» [Там же, с. 192]. Настроен на Победу и Леша Михайлов, который предлагает построить друзьям не снежную бабу, а «снежную крепость. <…> С блиндажом и со всем, что полагается» [Там же, с. 203]. Выраженная в произведениях вера писателя в конечное торжество добра соответствует особенностям детского восприятия: победа добра над злом «способствует удовлетворению чувства справедливости, так необходимого ребенку» [5, с. 303].
Таким образом, по ходу развития сюжета межличностный конфликт между детьми, олицетворяющими Добро, и фашистами, символизирующими Зло, переходит во внутренний конфликт, заключающийся в поиске маленькими персонажами ответа на философские вопросы о смысле жизни и смерти, о природе подвига. Начальное эмоциональное восприятие детьми войны как разновидности игры сменяется рациональным пониманием окружающей действительности, взвешенными решениями и поступками. Эта перемена объясняется тем, что, пройдя суровые испытания войны, герои стремительно взрослеют и обретают недетскую способность преодолеть свои страхи и фобии. Маленькие персонажи Л. Пантелеева, поставленные перед нравственным выбором, всегда остаются верны Добру.
Список литературы Рациональные и эмоциональные аспекты изображения конфликтов в произведениях Л. Пантелеева о войне
- Аникина Ю.А. Специфика конфликта в художественном мире В.П. Крапивина: дис. … канд филол. наук. Волгоград, 2014.
- Выготский Л.С. Собрание сочинений: в 6 т. М.: Педагогика, 1982-1984.
- Долженко Л.В. Рациональное и эмоциональное в русской детской литературе 50-80 годов XX в. (Н.Н. Носов, В.Ю. Драгунский, В.П. Крапивин): моногр. Волгоград: Перемена, 2001.
- Зеньковский В.В. Психология детства. М.: Академия, 1996.
- Обухова Л.Ф. Возрастная психология: учебник. М.: Пед. о-во России, 2004. 4-е изд.
- Пантелеев Л.И. Собрание сочинений: в 4 т. Рассказы о детях. Маленькие рассказы. Рассказы и воспоминания. Литературные портреты. Разговор с читателем. Одноактные пьесы. Л.: Дет. лит., 1984. Т. 3.
- Платонов Ю.П. Приемы психологической защиты . URL: http://www.psychologov.net/view_post.php?id=1855 (дата обращения: 20.10.2017).
- Эльконин Д.Б. Избранные психологические труды/под ред. В.В. Давыдова, В.П. Зинченко. М.: Педагогика, 1989.