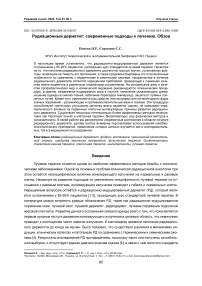Радиационный дерматит: современные подходы к лечению. Обзор
Бесплатный доступ
В настоящее время установлено, что радиационно-индуцированный дерматит является осложнением у 85-95% пациентов, проходящих курс стандартной лучевой терапии. Несмотря на то, что патогенез радиационного дерматита достаточно хорошо изучен, установлены факторы, влияющие на тяжесть его протекания, а также продемонстрированы его отличительные особенности по сравнению с термическим и химическим ожогами, профилактика и лечение радиационного дерматита остаются нерешённой проблемой, приводящей к снижению качества жизни пациентов и различным отдалённым осложнениям. На сегодняшний день в качестве профилактических мер в клинической медицине рекомендуются гигиенические процедуры, а именно: ежедневное поддержание кожи в чистоте, нанесение увлажняющего крема, ношение одежды из мягких тканей, избегание перепадов температур, защита от прямых солнечных лучей. Кроме того, применяется ряд средств, используемых для лечения других форм кожных поражений - увлажняющие и противовоспалительные мази и повязки. Эти процедуры способствуют частичному улучшению качества жизни пациента, однако, не оказывают терапевтического влияния на первичные клеточно-молекулярные причины развития радиационного дерматита. Существует несколько потенциально более эффективных методов лечения, таких как таргетная генная и клеточная терапии, биоактиваторы, ряд физических методов и нанокомпозиты. В своей работе мы рассмотрели современные достижения в области лечения радиационного дерматита, уделив особое внимание перспективам использования нанобиотехнологических препаратов, применение которых активно изучается как в экспериментальных, так и в медицинских исследованиях.
Радиационный дерматит, фиброз, воспаление, хронический окислительный стресс, средства местного применения, физическая терапия, биоактиваторы, таргетная генная терапия, клеточная терапия, нанокомпозиты, лучевая терапия
Короткий адрес: https://sciup.org/170206297
IDR: 170206297 | УДК: 616.5-002-02:615.849.1]-085 | DOI: 10.21870/0131-3878-2024-33-3-80-97
Текст научной статьи Радиационный дерматит: современные подходы к лечению. Обзор
Лучевая терапия остаётся одним из наиболее эффективных методов борьбы с онкологическими заболеваниями. Одной из основных проблем клинической радиационной онкологии при этом остаётся неспецифическое влияние ионизирующего излучения на нормальные и раковые клетки. Несмотря на развитие подходов по увеличению специфичности лучевой терапии по отношению к раковым клеткам, ионизирующее излучение приводит к гибели и нормальных клеток. Нерешённым вопросом остаётся и радиационно-индуцированный дерматит (РД), который является осложнением у 85-95% пациентов [1-3], проходящих курс стандартной лучевой терапии. В литературе можно встретить разные обозначения РД, такие как радиационно-индуцированное поражение кожи, лучевой ожог, лучевой дерматит, радиодермит, лучевое поражение подкожной жировой клетчатки. Развитие данного осложнения связано прежде всего с тем, что кожа является первым органом на пути движения ионизирующего излучения в целевую область, что неминуемо приводит к поглощению части энергии излучения. К настоящему времени патогенез радиационного дерматита до конца не изучен. Было показано, что существуют различия в механизмах индукции, клинических аспектах и патогенезе РД по сравнению с термическими и химическими ожогами [4]. Результаты исследований РД противоречивы, поскольку часто они получены на небольшой выборке, и отсутствует единая диагностическая оценка [5], в связи с чем золотого стандарта
Попова Н.Р. – вед. науч. сотр., к.б.н.; Сорокина С.С.* – ст. науч. сотр., к.б.н. ИТЭБ РАН.
для профилактики и лечения РД до сих пор не существует [3]. Лечение в основном проводится с использованием тех же рекомендаций и терапевтических мер, которые применяются при терапии термических ожогов [2, 6-8].
Таким образом, профилактика и лечение РД остаются нерешённой медико-социальной проблемой [3], приводящей к снижению качества жизни пациентов и различным отсроченным осложнениям [9]. В своей работе мы рассматриваем современные достижения в области лечения РД, уделив внимание перспективам применения нанобиотехнологичных препаратов в связи с их широким исследованием в различных сферах, в том числе в медицине и прикладных разработок.
1. Особенности патогенеза радиационного дерматита – поиск мишеней в лечении РД
2. Методы лечения радиационного дерматита
В 2013 г. Многонациональная ассоциация поддерживающей терапии при раке (MASCC) опубликовала общие клинические рекомендации по ведению острых и хронических радиационных ожогов. В зависимости от стадии РД, которая оценивается по шкале Онкологической группы лучевой терапии (RTOG) или Европейской организации по исследованию и лечению рака (EORTC), пациенту назначают соответствующие рекомендации, которые приняты в каждом отдельном центре лучевой терапии [2, 17]. Общее лечение лучевого дерматита включает гигиеническое самообслуживание, диету, применение профилактических средств, мазей и повязок [2], антибиотиков, иногда радиопротекторов (чаще амифостина). В некоторых случаях могут применяться физические методы лечения с помощью фототерапии и лазеров.
2.1. Средства местного применения
2.2. Физические методы терапии
Развитие РД обусловлено механизмом действия ионизирующего излучения. Патогенез РД включает сочетание прямого лучевого поражения кожи и последующей воспалительной реакции, поражающей клеточные элементы эпидермиса, дермы и сосудистой сети [4]. Основное лучевое поражение происходит за счёт интенсивного кратковременного нарастания пула активных форм кислорода (АФК) [10], которые атакуют клеточные структуры и биомолекулы. Во время лучевой терапии выработка АФК настолько резко возрастает, что наблюдается подавление защитной антиоксидантной системы организма и развивается окислительный стресс (ОС, редокс-стресс) [11, 12]. Вторичной реакцией является так называемый метаболический «порочный круг». После первичного образования АФК происходит рекрутирование воспалительных клеток, которые вырабатывают цитокины, что также приводит к длительному патологическому образованию АФК [10], пролонгируя ОС и воспаление. Медиаторы воспаления стимулируют изменения в пролиферации фибробластов, проницаемости эндотелия сосудов, образования коллагена и повреждения целостности эпидермиса, что нарушает нормальный процесс репопуляции клеток кожи [13]. Это, в свою очередь, обуславливает такие отдалённые последствия как хронический дерматит и фиброз кожи [12, 14]. Предполагается, что наиболее эффективными методами лечения РД должны стать те, что будут воздействовать непосредственно на причину развития РД: АФК и ОС, медиаторы воспаления и репопуляцию клеток.
Ещё одна важная особенность патогенеза РД – отдалённые сроки внешнего проявления патологических процессов и высокий риск рецидивов из-за невосстанавливаемого системного повреждения кожи. В обзоре Singh и соавт. [4] отмечается, что РД часто классифицируется как острый или хронический (поздний), начиная от острой эритемы и заканчивая хроническим фиброзом кожи. Хронический РД часто проявляется через несколько месяцев или лет после завершения лучевой терапии [2]. Телеангиэктазии и фиброз также распространены среди пациентов, страдающих хроническим РД, причём последний часто предшествует образованию язв, разрушению кожи, втягиванию тканей и последующему ограничению движений, боли и тромбозу/об-струкции из-за разрастания мелких кровеносных сосудов [14]. Для оценки эффективности препаратов, используемых при лечении РД, наиболее важным из факторов является стадия развития повреждения и, как следствие, преобладающая форма патологического состояния кожи. Выделяют острую и хронические формы РД. Острой форме (раннее поражение эпителия) свойственны появление на коже покраснений, пузырей, эрозий с возможным атрофированием участков эпидермиса. Хроническая форма является последствием острого РД по причине многократного воздействия небольших доз облучения [15]. Также выделяют эритематозную (8-12 Гр), буллёзную
(12-20 Гр) и некротическую форму РД при облучении в дозе больше 20 Гр [16]. Наличие таких многофакторных предикторов формирования радиационно-индуцированных ожогов обуславливает всю сложность их лечения и профилактики.
В качестве профилактических мер рекомендуются гигиенические процедуры, ежедневное поддержание кожи в чистоте, нанесение увлажняющего крема, ношение одежды из мягких тканей, избегание перепадов температур, защита от прямых солнечных лучей. Рекомендовано использование мягкого мыла и дезодоранта, причём достаточное долгое время уместность данного подхода была предметом споров. Следует отметить, что выбор гигиенических и профилактических средств чаще лежит на самих пациентах. Обычно рекомендовано использовать продукты, которые продаются без рецепта и не содержат ароматизаторов и ланолина.
Для местного нанесения на кожу используются стероидные (1% кортикостероидный крем, беклометазон) и нестероидные гели и мази (гель алоэ вера, крем биафин, кремы на основе гиалуронидазы, сукральфат, гидрофильные средства без ланолина) [18]. Было показано, что нанесение натурального кокосового масла без втирания в кожу способствует уменьшению зуда и раздражения [19]. Профилактический спрей с беклометазоном значительно снижает частоту влажного шелушения [18]. Maddocks-Jennings и соавт. [1] показали, что использование гидрофильных веществ, таких как гель алоэ вера или растительное масло с высоким содержанием незаменимых жирных кислот, так же эффективно, как и мягкие стероидные кремы (например, 1% гидрокортизон), что оценивается по снижению тяжести реакции без побочных эффектов. Гиалуроновая кислота ускоряет грануляционную фазу заживления. Так, 0,2% крем с гиалуроновой кислотой статистически значимо отсрочил начало кожной реакции на третью неделю, а также снизил интенсивность и продолжительность реакции [20]. Продемонстрировано, что профилактическое применение геля алоэ вера и крема с сукральфатом не снижает ни частоту, ни тяжесть острой радиационной токсичности [21]. При лечении РД шеи показана относительная эффективность увлажняющей мази MEBO на основе рецептов китайской медицины, которая обеспечивала глубокое увлажнение, улучшала микроциркуляцию, стимулировала пролиферацию фибробластов, снижала болевой синдром у пациентов [22]. Показано краткосрочное регенерирующее действие оксикорта и перуанского бальзама на крысах в модели лучевого ожога. Проводятся полномасштабные клинические испытания Jaungo, комплексной травяной мази, включающей дягиль и лито-спермум, показавшей свою безопасность и эффективность [23]. Было получено несколько сви- детельств в пользу использования стероидов [18, 24] при профилактическом лечении кожных реакций, вызванных облучением. Исследование Miller и соавт. [25], показало значительное снижение степени дискомфорта, жжения и зуда в группе, получавшей 0,1% мометазона фуроата, по сравнению с контрольной группой, получавшей плацебо. Установлена эффективность крема с сульфадиазином серебра на пациентах с РД после облучения при раке молочной железы [26]. В ряде случаев могут использоваться раневые повязки с целью антисептического и увлажняющего эффекта [27]. Контролируемые клинические испытания показали, что мягкие силиконовые повязки Mepilex уменьшают вызванную облучением эритему [28]. Они поглощают раневой экссудат, способствуют высвобождению факторов роста, образованию кровеносных капилляров и развитию грануляционной ткани на раневой поверхности, растворяя некротические и фиброзные ткани.
Таким образом, средства местного применения достаточно безопасны и довольно просты в использовании, однако, для успешного лечения РД они недостаточно эффективны, поскольку в основном направлены на снижение чувства жжения, зуда и болевого синдрома. Это несомненно важно для улучшения качества жизни пациента, но не оказывает терапевтического влияния на РД.
В качестве физической терапии для ускорения репарации повреждений, в том числе радиационно-индуцированного некроза [29] было предложено использовать гипербарическую камеру (100% кислород, давление 2-2,5 атм, 60-120 мин). Камера увеличивает концентрацию кислорода в тканях, что приводит к усилению ангиогенеза и синтеза коллагена, а также способствует противостоянию бактериальной инфекции [30]. В соответствии с гипотезой об активном вовлечении сосудистого окружения в развитие РД при позднем лучевом поражении локальные изменения в тканевой микроциркуляции могут быть основным фактором, влияющим на патогенез. Кроме того, в камере может опосредоваться фибробластический стромальный процесс, стимулируя васкуло-генные стволовые клетки [31]. Tahir и соавт. [32] проанализировали результаты лечения 276 пациентов, сообщив о значительном улучшении некроза мягких тканей и ксеростомии, однако, у 64% пациентов после барокамеры развились побочные эффекты.
В качестве ещё одного терапевтического подхода предложено использовать газообразный водород, который может снижать уровни пероксинитрита и гидроксильных радикалов, вызывающих радиационно-индуцированные повреждения на клеточном уровне [33]. В работе [34] было показано, что вдыхание водородсодержащего газа способствовало заживлению повреждений, вызванных облучением, и уменьшало количество радиодермитов. С помощью метода TUNEL было показано, что облучённая кожа крыс перед ингаляцией водородом имела более низкие уровни малонового альдегида и 8-гидрокси-2-деоксигуанозина, однако статистически значимых изменений их концентраций в сыворотке крови обнаружено не было.
В последние десятилетия фототерапия применяется при кожных заболеваниях, включая псориаз и атопический дерматит [35]. Показано, что фототерапия ультрафиолетом (UV) обладает рядом противовоспалительных, иммунодепрессивных и цитотоксических свойств. Механизмы его действия на кожу до конца не изучены, но включают в себя индукцию цис-урокановой кислоты (cis-urocanic acid), истощение клеток Лангерганса, изменение презентации антигена, снижение активности естественных клеток-киллеров и апоптоз Т-лимфоцитов и кератиноцитов. Механизмы действия фототерапии (PUVA или Psoralen-Ultraviolet Light A Therapy) включают в себя сшивание ДНК через фотоаддукты псоралена, ингибирование репликации ДНК, истощение клеток
Лангерганса и иммуносупрессивное воздействие на функцию и миграцию Т-лимфоцитов. Фототерапия UVA-1 (ультрафиолетовый спектр А-1) проникает в дерму глубже и индуцирует интерстициальную коллагеназу и цитокины, что приводит к смягчению склеротической кожи. Фотофе-рез приводит к тому, что дендритные клетки приобретают антиген от апоптотических лимфоцитов, которые вызывают специфический иммунный ответ без системной иммуносупрессии [36]. Сообщается об эффективности фототерапии в ингибировании апоптоза в эпидермисе, что может иметь успешное клиническое применение [5, 37]. Фототерапия красным светом является второй линией лечения атопического дерматита и экземы и обладает потенциалом для лечения лучевого ожога за счёт улучшения гемангиоэктазии и кровообращения тканей в глубоком слое кожи. Клинические эксперименты продемонстрировали, что применение фототерапии приводит к снижению как степени РД, так и болевого синдрома [5].
Отмечается, что гелий-неоновая (He-Ne) лазерная терапия также может стать весьма эффективной при лечении РД [38, 39]. Показано, что He-Ne терапия ускоряет региональные ангио-эктазы и кровообращение, увеличивая проницаемость кровеносных сосудов. Ускоряя пролиферацию механоцитов в ранах, она способствует регенерации эпителиальных клеток и кровеносных капилляров, повышая иммунитет [40] и способствуя заживлению ран у крыс с диабетом [41].
2.3. Пероральные агенты и биоактиваторы
Особое место в лечении РД занимают так называемые биоактиваторы – плазма, интерлейкины, супероксиддисмутаза (СОД), EUK-207, витамин Е и 3’-дезоксиаденозин (кордицепин). Белки в плазме могут частично улучшить кровообращение и снабжение питательными веществами, помогая свежей грануляционной ткани расти к поверхности. В исследовании Lee и соавт. [42] на мышах оценено влияние обогащённой тромбоцитами плазмы на заживление лучевых ожогов и показано, что она усиливала функцию кератиноцитов (K14 клеток) через AKT/PKB-сигнальный путь, ускоряя регенерацию и заживление ран на облучённой коже. Клинические исследования также показали, что другие биоматериалы на основе плазмы улучшают заживление ран и смягчают острую токсичность [43].
Интерлейкин-12 (IL-12) в основном секретируется дендритными клетками, моноцитами и макрофагами. Хотя подробный механизм, с помощью которого он влияет на лучевой ожог, ещё не выяснен, ряд учёных провели анализ крови и измерили трансэпидермальную потерю воды и площадь ожога у крыс после β-облучения. Результаты показали, что IL-12 улучшает кожный барьер после облучения, ускоряет заживление ран и смягчает истощение дендритных клеток кожи [44]. IL-17 [45] и IL-33 [46] также играют ключевую роль в развитии и усугублении РД. Американские учёные сообщили, что у мышей, у которых отсутствовали γδ-клетки, экспрессирующие IL-17, реже развивался РД, что подчёркивает роль этих клеток в опосредовании воспаления, вызванного радиацией.
СОД, способная проникать через кожную слизистую оболочку, действует как перехватчик свободных радикалов в дерме, повышая переносимость дозы ионизирующего излучения кожей и слизистыми оболочками. СОД-глиадин, пероральная форма СОД, был оценён в качестве средства для лечения лучевого дерматита, показав улучшение состояния кожи за счёт увеличения экспрессии антиоксидантных ферментов [47]. Кроме того, СОД успешно применялась локально у онкологических пациентов для эффективного контроля над РД [48]. Показано, что модифицированные СОД, а именно белковая трансдукция SOD1 (HIV-TAT protein transduction domain mediated protein transduction of SOD1) могут снижать уровни радиационно-индуцированных фокусов yH2AX, АФК и малонового диальдегида, что уменьшает степень развития ожога у крыс. Кроме того, сверхэкспрессия Mn-супероксиддисмутазы на основе вируса (AAV2-MnSOD) также рассматривается в качестве многообещающей контрмеры.
Каталаза является потенциальным защитным компонентом иммунного ответа при радиационном повреждении кожи из-за её способности снижать TNFα-индуцированную продукцию цитокинов и АФК [27].
EUK-207 – синтетический миметик супероксиддисмутазы/каталазы с мощной антиоксидантной активностью в качестве каталитического поглотителя АФК. EUK-207 может облегчать лучевой дерматит и повреждение сосудов, способствуя заживлению ран. Комбинация СОД и EUK-207 на моделях крыс показала смягчение острого лучевого ожога через 48 ч после облучения. EUK-207 также восстанавливал функцию эндотелия, ингибировал АФК, повышал уровень анти-апоптотического гена Bcl-2 и снижал уровень про-апоптотических молекул Bax [49].
Использование амифостина в качестве средства защиты от радиации [50] и пероральных гидролитических ферментов Wobe-Mugos помогает уменьшить лучевой дерматит [51]. Куркумин также продемонстрировал способность снижать радиационную токсичность кожи благодаря своей мощной антиоксидантной и противовоспалительной активности [52].
Кордицепин, также известный как 3’-дезоксиаденозин, является своего рода биологически активным аналогом нуклеозида, который извлекается из гриба Cordyceps sinensis. На нескольких моделях животных было обнаружено, что кордицепин может быть использован в качестве терапевтического средства для облегчения лучевой язвы, благодаря тому, что он активирует AMPK (AMP-activated kinase) путём связывания с её аутоингибирующими доменами, способствуя деградации Keap1 (Kelch Like ECH Associated Protein 1) и индуцируя ядерную транслокацию Nrf2 (Nuclear factor erythroid 2-related factor 2). Недавно было показано, что кордицепин задерживает старение клеток, что открывает новые возможности для лечения лучевой язвы [53, 54].
2.4. Таргетная генная терапия
Таргетная генная терапия стала многообещающим средством в борьбе с последствиями облучения. Доклинические исследования выявили следующие потенциальные мишени: ингибитор пути трансформирующего фактора роста (TGFβ1) [54], агонист TLR5 (толл-подобный рецептор-5) [55] и ингибитор циклин-зависимых киназ [56]. Показано, что правастатин – ингибитор ГМГ-КоА-редуктазы уменьшает радиационное повреждение кожи за счёт поддержания функции эндотелиальных клеток после облучения с помощью увеличения эндотелиальной синтазы оксида азота [11]. Atiba и соавт. [57] наблюдали ускорение радиационно-замедленного заживления ран у мышей при стимуляции TGFβ-1 и основного фактора роста фибробластов (bFGF), что позволяет предположить, что лечение фактором роста может уменьшить лучевое повреждение кожи. Хотя эти препараты ещё требуют официального и обширного клинического тестирования, тар-гетная терапия в настоящее время может рассматриваться в качестве специфического благоприятного лечения РД.
2.5. Клеточная терапия
Было показано, что клетки, полученные из костного мозга (BMDCs), притягиваются к местам радиационного повреждения из-за хемотаксических эффектов (стромального клеточного фактора SDF-1 и рецептора хемокинов CXCR4). Обнаружено, что мезенхимальные клетки, эндотелиальные клетки-предшественники и миеломоноцитарные клетки активно вовлекаются в процесс заживления раны. Преобладающие миеломоноцитарные клетки локализуются в облучённой ткани и стимулируют образование и восстановление сосудов посредством высвобождения ангиогенных факторов. Однако важно понимать, что эти клетки могут сами инициировать воспалительный каскад и вызывать ишемическое реперфузионное повреждение [12, 14].
Жировая ткань является богатым источником мезенхимальных стволовых клеток и, по-ви-димому, обладает ранозаживляющим действием, сходным с действием мезенхимальных стволовых клеток (МСК) [58]. В работе [59] впервые на клеточных моделях и крысах SD показано, что радиация индуцирует перераспределение липидов кожи, а адипоциты кожи выполняют защитную роль от радиационно-индуцированного повреждения кожи. В совместной культуре адипоцитов человека (WATs), кератиноцитов человека (HaCaT) и фибробластов кожи (WS1) ионизирующее излучение модулировало кожный липидный обмен путём подавления нескольких сигнальных путей. Крысы, которых кормили продуктами с высоким содержанием жиров, продемонстрировали изменение липидных профилей и устойчивость к радиогенному повреждению кожи по сравнению с контрольной диетой.
Стволовые клетки, полученные из жировой ткани (ADSC), представляют собой мультипо-тентные клетки, способные стимулировать ангиогенез, секретировать биохимические мессенджеры (цитокины и факторы роста) и стимулировать пролиферацию дермальных фибробластов во время фазы реэпителизации при заживлении ран [60]. Двумерный электрофоретический гель-протеомный анализ показал, что внутриклеточный белковый состав BMDC и ADSC клеток схож, при этом ADSC в 100 раз более многочисленны, чем BMDC на ткань. Кроме того, ADSC могут быть легче получены из донорских участков, чем BMDC, путём липосакции или твёрдой жировой ткани в местах, удалённых от лучевого повреждения [60]. Ещё в 2009 г. сообщалось, что ADSC имеют перспективы для исследований в области восстановления кожи, поскольку через паракринные механизмы активируют кератиноциты и дермальные фибробласты, способствуя заживлению ран [12]. В 2012 г. регенеративный потенциал ADSC был продемонстрирован в исследовании участия некультивированных ADSC в лечении хронических лучевых поражений. В работе сделан вывод, что лечение ADSC было эффективным в улучшении качества ран и не приводило к рецидиву или новым изъязвлениям [60].
В работе [61] продемонстрировано, что применение концентрата кондиционированной среды МСК плаценты при тяжёлых местных лучевых поражениях при дозе 110 Гр у крыс способствует ускорению перехода раневого процесса в стадию регенерации и эпителизации, однако, анализ гистохимического исследования не позволяет однозначно судить об эффективности применения данного вида терапии. Кроме того, отмечается, что при сочетанном введении факторов кондиционной среды и трансплантации стволовых клеток жировой ткани эффективность заживления радиационных язв возрастает.
2.6. Нанокомпозиты и нанотехнологии
Наряду с активным развитием отрасли нанотехнологий предпринимаются попытки применения нанокомпозитов и в терапии РД. Наночастицы (НЧ) оксида церия (CeO2) служат многоразовыми активными перехватчиками свободных радикалов и рассматриваются в качестве основы для будущих биомедицинских препаратов, в том числе радиопротекторов, применение которых целесообразно при лучевой терапии за счёт их избирательной цитотоксичности по отношению к раковым клеткам [62, 63]. НЧ CeO2 уменьшают количество радиационно-индуцированных разры- вов ДНК, ослабляя мутагенез, стимулируют экспрессию антиоксидантных ферментов, а также обладают митогенными свойствами. В работе [64] было показано, что использование НЧ CeO2 может уменьшить ксеростомию и дерматит после воздействия на голову и шею мышей рентгеновского излучения в суммарной дозе 30 Гр. Кроме того, был синтезирован гидрогель на основе природных полисахаридов, модифицированный НЧ CeO2, который значительно сокращал время заживления плоских и линейных ран у крыс и способствовал быстрому уменьшению площади раневого дефекта и образованию рубца с полной регенерацией тканей в области раны. Тот же гель обеспечивал ускоренное заживление модельной ожоговой раны у крыс [65].
НЧ куркумина в сочетании с импульсным лазером ускоряют заживление ран за счёт значительного увеличения скорости закрытия раны, а также прочности раны и значительного снижения количества золотистого стафилококка. Нанокуркумин 80 мг/день незначительно облегчал радиационно-индуцированные кожные реакции у пациентов с раком молочной железы [66].
Система доставки НЧ хитозана, модифицированная триполифосфатом натрия и загруженная VEGF165 с контролируемым локальным высвобождением, задерживает развитие радиационно-индуцированного повреждения кожи у крыс после локального облучения в дозе 45 Гр Х-лучей и способствует заживлению ран [67].
Данных о применении средств на основе нанокомпозитов при РД в доступной литературе очень мало. В частности, в работе Schmidt и соавт. [68] приведён протокол клинических испытаний крема, содержащего НЧ с витамином Е, для профилактики РД у женщин с раком молочной железы. Было показано, что применение крема позволяет снизить уровень развития РД. Функции витамина Е заключаются в нейтрализации свободных радикалов и поддержании ферментативной активности и тканевого метаболизма. Однако были получены результаты, свидетельствующие о том, что, вероятно, сам носитель, а не витамин Е, снижает воздействие свободных радикалов на облучённую кожу. Метаанализ, проведённый в США, показал эффективность пентоксифиллина совместно с витамином Е при лечении лучевого дерматита.
К настоящему времени накоплено достаточно сведений о применении нанотехнологий в лечении УФ-индуцированных ожогов. «Жёсткое» УФ-В и С излучение (диапазона 100-315 нм) имеет в основе своего повреждающего действия механизмы, аналогичные механизмам ионизирующего излучения. На мышах продемонстрировано противовоспалительное защитное действие геля нано-Pt и астаксантиновых липосом C57BL/6J мышей, при этом астаксантин в качестве самостоятельного антиоксиданта при местном применении является перспективным соединением и для ускорения заживления кожных ран у мышей [69]. Во многих исследованиях показано, что НЧ, нагруженные VEGF (сосудистым эндотелиальным фактором роста), и мицелла из полимера, содержащая нитроксильный радикал (окислительно-восстановительные НЧ), значительно уменьшают фотостарение кожи, а также снижают утолщение эпидермиса, отёк, эритему, кожные поражения и различные патологические воспалительные заболевания кожи у мышей. Показано, что НЧ серебра и монодисперсные НЧ меди снижают фотоповреждения кожи и защищают от ожоговой инфекции. Основные механизмы, через которые вышеперечисленные композиты могут защищать УФ-повреждения кожи – это наличие сильного антиоксидантного эффекта, снижение продукции АФК, ингибирование апоптоза в кератиноцитах и эндотелиальных клетках сосудов, наличие противовоспалительной функции, усиление ангиогенеза, костной регенерации и ускорение заживления ран при радиоактивных повреждениях кожи – мишени, через которые возможен терапевтический эффект перечисленных НЧ и в случае РД.
Помимо этого, активно разрабатываемые распыляемые биоадгезивы – нанокомпозитные натуральные и синтетические гидрогели для заживления различного типа ран и наноповязки [70], например, инъекционные адгезивные термочувствительные многофункциональные повязки, применяемые для заживления диабетических ран, также представляются перспективными в исследовании их применения при РД.
Заключение
В настоящее время в клинической практике профилактики и лечения РД одобренными средствами являются стероидные и нестероидные гели и мази, а также различные раневые повязки с целью антисептического и увлажняющего эффекта. Такие средства местного применения показали свою безопасность и довольно просты в использовании, однако, для успешного лечения РД они недостаточно эффективны.
Среди физических методов терапии клинические эксперименты проведены с использованием фототерапии, снижающей болевой синдром и степень выраженности радиодерматита, в то время как другие методы физической терапии либо имеют значимые побочные эффекты у ряда пациентов, либо к настоящему времени ещё не доказана их эффективность.
Среди пероральных агентов и биоактиваторов клинические исследования на людях представлены по СОД, применяемой локально у онкологических пациентов для эффективного контроля над РД, а также амифостину и куркумину, снижающих радиационную токсичность кожи. Отметим, что особое место в качестве многообещающей контрмеры здесь занимают биоматериалы на основе обогащённой тромбоцитами плазмы. Что касается таргетной генной терапии и нанокомпозитов, то все исследования сейчас находятся на доклинической стадии. В отличие от них, клеточная терапия активно внедрена в практику лечения разного рода ожогов, поэтому сочетанное введение факторов кондиционной среды и трансплантации стволовых клеток жировой ткани уже показали свою эффективность в заживлении радиационных язв у пациентов. Таким образом, на фоне большого числа разрозненных данных об эффективности различных подходов при лечении радиационно-индуцированных повреждений кожи, есть ряд физических способов, биологических активаторов и локальных препаратов, которые либо уже активно внедрены в клиническую практику, либо заслуживают особого внимания для проведения подтверждающих исследований на более широкой выборке пациентов. Среди них особое место занимает таргетная терапия и применение нанокомпозитов, которым ещё предстоит пройти долгий путь, прежде чем эти терапевтические подходы достигнут широкого применения в клинической практике.
Исследование выполнено за счёт гранта Российского научного фонда № 22-63-00082,
Список литературы Радиационный дерматит: современные подходы к лечению. Обзор
- Maddocks-Jennings W., Wilkinson J.M., Shillington D. Novel approaches to radiotherapy-induced skin reactions: a literature review //Complement. Ther. Clin. Pract. 2005. V. 11, N 4. P. 224-231.
- Salvo N., Barnes E., van Draanen J., Stacey E., Mitera G., Breen D., Giotis A., Czarnota G., Pang J., De Angelis C. Prophylaxis and management of acute radiation-induced skin reactions: a systematic review of the literature //Curr. Oncol. 2010. V. 17, N 4. P. 94-112.
- Ryan J.L. Ionizing radiation: the good, the bad, and the ugly //J. Invest. Dermatol. 2012. V. 132 (3 Pt 2). P. 985-993.
- Singh M., Alavi A., Wong R., Akita S. Radiodermatitis: a review of our current understanding //Am. J. Clin. Dermatol. 2016. V. 17, N 3. P. 277-292.
- Zhang Y., Zhang S., Shao X. Topical agent therapy for prevention and treatment of radiodermatitis: a meta-analysis //Support. Care Cancer. 2013. V. 21, N 4. P. 1025-1031.
- McQuestion M. Evidence-based skin care management in radiation therapy //Semin. Oncol. Nurs. 2006. V. 22, N 3. P. 163-173.
- Wolbarst A.B., Wiley A.L.Jr., Nemhauser J.B., Christensen D.M., Hendee W.R. Medical response to a major radiologic emergency: a primer for medical and public health practitioners //Radiology. 2010. V. 254, N 3. P. 660-677.
- Bey E., Prat M., Duhamel P., Benderitter M., Brachet M., Trompier F., Battaglini P., Ernou I., Boutin .L, Gourven M., Tissedre F., Créa S., Mansour C.A., de Revel T., Carsin H., Gourmelon P., Lataillade J.J. Emerging therapy for improving wound repair of severe radiation burns using local bone marrow-derived stem cell administrations //Wound Rep. Reg. 2010. V. 18, N 1. P. 50-58.
- Siegel R., Desantis C., Virgo K., Stein K., Mariotto A., Smith T., Cooper D., Gansler T., Lerro C., Fedewa S., Lin C., Leach C., Cannady R.S., Cho H., Scoppa S., Hachey M., Kirch R., Jemal A., Ward E. Cancer treatment and survivorship statistics //CA Cancer J. Clin. 2012. V. 62, N 4. P. 220-241.
- Williams J.P., McBride W.H. After the bomb drops: a new look at radiation-induced multiple organ dysfunction syndrome (MODS) //Int. J. Radiat. Biol. 2011. V. 87, N 8. P. 851-868.
- Holler V., Buard V., Gaugler M.H., Guipaud O., Baudelin C., Sache A., Perez Mdel R., Squiban C., Tama-rat R., Milliat F., Benderitter M. Pravastatin limits radiation-induced vascular dysfunction in the skin //J. Invest. Dermatol. 2009. V. 129, N 5. P. 1280-1291.
- Kim J.H., Kolozsvary A.J.J., Jenrow K.A., Brown S.L. Mechanisms of radiation-induced skin injury and implications for future clinical trials //Int. J. Radiat. Biol. 2013. V. 89, N 5. P. 311-318.
- Denham J.W., Hauer-Jensen M. The radiotherapeutic injury – a complex “wound” //Radiother. Oncol. 2002. V. 63, N 2. P. 129-145.
- Amber K.T., Shiman M.I., Badiavas E.V. The use of antioxidants in radiotherapy-induced skin toxicity //Integr. Cancer Ther. 2014. V. 13, N 1. P. 38-45.
- Spałek M. Chronic radiation-induced dermatitis: challenges and solutions //Clin. Cosmet. Investig. Dermatol. 2016. V. 9. P. 473-482.
- Leventhal J., Young M.R. Radiation dermatitis: recognition, prevention, and management //Oncology (Williston Park). 2017. V. 31, N 12. P. 885-899.
- Cox J.D., Stetz J., Pajak T.F. Toxicity criteria of the Radiation Therapy Oncology Group (RTOG) and the European Organization for Research and Treatment of Cancer (EORTC) //Int. J. Radiat. Oncol. Biol. Phys. 1995. V. 31, N 5. P. 1341-1346.
- Shukla P.N., Gairola M., Mohanti B.K., Rath G.K. Prophylactic beclomethasone spray to the skin during postoperative radiotherapy of carcinoma breast: a prospective randomized study //Indian J. Cancer. 2006. V. 43, N 4. P. 180-184.
- Quimby A.E., Hogan D., Khalil D., Hearn M., Nault C., Johnson-Obaseki S. Coconut oil as a novel approach to managing radiation-induced xerostomia: a primary feasibility study //Int. J. Otolaryngol. 2020. V. 2020. P. 8537643. DOI: 10.1155/2020/8537643.
- Liguori V., Guillemin C., Pesce G.F., Mirimanoff R.O., Bernier J. Double-blind, randomized clinical study comparing hyaluronic acid cream to placebo in patients treated with radiotherapy //Radiother. Oncol. 1997. V. 42, N 2. P. 155-161.
- Wells M., Macmillan M., Raab G., MacBride S., Bell N., MacKinnon K., MacDougall H., Samuel L., Munro A. Does aqueous or sucralfate cream affect the severity of erythematous radiation skin reactions? A randomised controlled trial //Radiother. Oncol. 2004. V. 73, N 2. P. 153-162.
- Geara F.B., Eid T., Zouain N., Thebian R., Andraos T., Chehab C., Ramia P., Youssef B., Zeidan Y.H. Randomized, prospective, open-label phase III trial comparing Mebo ointment with Biafine cream for the management of acute dermatitis during radiotherapy for breast cancer //Am. J. Clin. Oncol. 2018. V. 41, N 12. P. 1257-1262.
- Shin S., Jang B.H., Suh H.S., Park S.H., Lee J.W., Yoon S.W., Kong M., Lim Y.J., Hwang D.S. Effective-ness, safety, and economic evaluation of topical application of a herbal ointment, Jaungo, for radiation der-matitis after breast conserving surgery in patients with breast cancer (GREEN study): study protocol for a randomized controlled trial //Medicine (Baltimore). 2019. V. 98, N 15. P. e15174. DOI: 10.1097/MD.0000000000015174.
- Schmuth M., Wimmer M.A., Hofer S., Sztankay A., Weinlich G., Linder D.M., Elias P.M., Fritsch P.O., Fritsch E. Topical corticosteroid therapy for acute radiation dermatitis: a prospective, randomized, double-blind study //Br. J. Dermatol. 2002. V. 146, N 6. P. 983-991.
- Miller R.C., Schwartz D.J., Sloan J.A., Griffin P.C., Deming R.L., Anders J.C., Stoffel T.J., Haselow R.E., Schaefer P.L., Bearden J.D3rd, Atherton P.J., Loprinzi C.L., Martenson J.A. Mometasone furoate effect on acute skin toxicity in breast cancer patients receiving radiotherapy: a phase III double-blind, randomized trial from the North Central Cancer Treatment Group N06C4 //Int. J. Radiat. Oncol. Biol. Phys. 2011. V. 79, N 5. P. 1460-1466.
- Hemati S., Asnaashari O., Sarvizadeh M., Motlagh B.N., Akbari M., Tajvidi M., Gookizadeh A. Topical silver sulfadiazine for the prevention of acute dermatitis during irradiation for breast cancer //Support. Care Cancer. 2012. V. 20, N 8. P. 1613-1618.
- Rosenthal A., Israilevich R., Moy R. Management of acute radiation dermatitis: a review of the literature and proposal for treatment algorithm //J. Am. Acad. Dermatol. 2019. V. 81, N 2. P. 558-567.
- Diggelmann K.V., Zytkovicz A.E., Tuaine J.M., Bennett N.C., Kelly L.E., Herst P.M. Mepilex Lite dressings for the management of radiation-induced erythema: a systematic inpatient controlled clinical trial //Br. J. Radiol. 2010. V. 83, N 995. P. 971-978.
- Espenel S., Raffoux C., Vallard A., Garcia M.A., Guy J.B., Rancoule C., Ben Mrad M., Langrand-Escure J., Trone J.C., Pigne G., Diao P., Magné N. Hyperbaric oxygen and radiotherapy: from myth to reality //Cancer Radiother. 2016. V. 20, N 5. P. 416-421.
- Borab Z., Mirmanesh M.D., Gantz M., Cusano A., Pu L.L. Systematic review of hyperbaric oxygen therapy for the treatment of radiation-induced skin necrosis //J. Plast. Reconstr. Aesthet. Surg. 2017. V. 70, N 4. P. 529-538.
- Hampson N.B., Holm J.R., Wreford-Brown C.E., Feldmeier J. Prospective assessment of outcomes in 411 patients treated with hyperbaric oxygen for chronic radiation tissue injury //Cancer. 2012. V. 118, N 15. P. 3860-3868.
- Tahir A.R., Westhuyzen J., Dass J., Collins M.K., Webb R., Hewitt S., Fon P., McKay M. Hyperbaric oxy-gen therapy for chronic radiation-induced tissue injuries: Australasia’s largest study //Asia Pac. J. Clin. Oncol. 2015. V. 11, N 1. P. 68-77.
- Liu C., Cui J., Sun Q., Cai J. Hydrogen therapy may be an effective and specific novel treatment for acute radiation syndrome //Med. Hypotheses. 2010. V. 74, N 1. P. 145-146.
- Watanabe S., Fujita M., Ishihara M., Tachibana S., Yamamoto Y., Kaji T., Kawauchi T., Kanatani Y. Protective effect of inhalation of hydrogen gas on radiation-induced dermatitis and skin injury in rats //J. Radiat. Res. 2014. V. 55, N 6. P. 1107-1113.
- Barros N.M., Sbroglio L.L., Buffara M.O., Baka J.L., Pessoa A.S., Azulay-Abulafia L. Phototherapy //An. Bras. Dermatol. 2021. V. 96, N 4. P. 397-407.
- Rathod D.G., Muneer H., Masood S. Phototherapy. StatPearls [Internet]. Treasure Island: StatPearls Publ., 2022. 86 p.
- Rácz E., Prens E.P. Phototherapy of psoriasis, a chronic inflammatory skin disease //Adv. Exp. Med Biol. 2017. V. 996. P. 287-294.
- Персина И.С., Ракчеев A.П. Влияние излучения гелий-неонового лазера на морфологию эксперимен-тального аллергического контактного дерматита //Бюллетень экспериментальной биологии и меди-цины. 1984. Т. 97, № 5. С. 603-605.
- Sakihama H. Effect of a helium-neon laser on cutaneous inflammation //Kurume Med J. 1995. V. 42, N 4. P. 299-305.
- Kara N., Selamet H., Benkli Y.A., Beldüz M., Gökmenoğlu C., Kara C. Laser therapy induces increased viability and proliferation in isolated fibroblast cells //Wounds. 2020. V. 32, N 3. P. 69-73.
- Eissa M., Salih W.H. The influence of low-intensity He-Ne laser on the wound healing in diabetic rats //Lasers Med. Sci. 2017. V. 32, N 6. P. 1261-1267.
- Lee J., Jang H., Park S., Myung H., Kim K., Kim H., Jang W.S., Lee S.J., Myung J.K., Shim S. Platelet-rich plasma activates AKT signaling to promote wound healing in a mouse model of radiation-induced skin injury //J. Transl. Med. 2019. V. 17, N 1. P. 295-305.
- Miller E.D., Song F., Smith J.D., Ayan A.S., Mo X., Weldon M., Lu L., Campbell P.G., Bhatt A.D., Chakravarti A., Jacob N.K. Plasma-based biomaterials for the treatment of cutaneous radiation injury //Wound Rep. Reg. 2019. V. 27, N 2. P. 139-149.
- Gerber S.A., Cummings R.J., Judge J.L., Barlow M.L., Nanduri J., Johnson D.E.M., Palis J., Pentland A.P., Lord E.M., Ryan J.L. Interleukin-12 preserves the cutaneous physical and immunological barrier after radia-tion exposure //Radiat. Res. 2015. V. 183, N 1. P. 72-81.
- Liao W., Hei T.K., Cheng S.K. Radiation-induced dermatitis is mediated by IL17-expressing T cells //Radiat. Res. 2017. V. 187, N 4. P. 454-464.
- Kurow O., Frey B., Schuster L., Schmitt V., Adam S., Hahn M., Gilchrist D., McInnes I.B., Wirtz S., Gaipl U.S., Krönke G., Schett G., Frey S., Hueber A.J. Full length interleukin 33 aggravates radiation-induced skin reaction //Front. Immunol. 2017. V. 8. P. 722. DOI: 10.3389/fimmu.2017.00722.
- Yücel S., Şahin B., Güral Z., Olgaç V., Aksu G., Ağaoğlu F., Sağlam E., Aslay I., Darendeliler E. Impact of superoxide dismutase-gliadin on radiation-induced fibrosis: an experimental study //In Vivo. 2016. V. 30, N 4. P. 451-456.
- Manzanas G.A., López C.M.C., Vallejo O.C., Samper Ots P., Delgado P.J.M., Carretero A.E., Gómez-Serranillos P., de la Morena del Valle L. Superoxidase dismutase (SOD) topical use in oncologic patients: treat-ment of acute cutaneous toxicity secondary to radiotherapy //Clin. Transl. Oncol. 2008. V. 10, N 3. P. 163-167.
- Doctrow S.R., Lopez A., Schock A.M., Duncan N.E., Jourdan M.M., Olasz E.B., Moulder J.E., Fish B.L., Mäder M., Lazar J., Lazarova Z. A synthetic superoxide dismutase/catalase mimetic EUK-207 mitigates radiation dermatitis and promotes wound healing in irradiated rat skin //J. Invest. Dermatol. 2013. V. 133, N 4. P. 1088-1096.
- Dunst J., Semlin S., Pigorsch S., Müller A.C., Reese T. Intermittent use of amifostine during postoperative radiochemotherapy and acute toxicity in rectal cancer patients //Strahlenther. Onkol. 2000. V. 176, N 9. P. 416-421.
- Dale P.S., Tamhankar C.P., George D., Daftary G.V. Co-medication with hydrolytic enzymes in radiation therapy of uterine cervix: evidence of the reduction of acute side effects //Cancer Chemother. Pharmacol. 2001. V. 47 (Suppl). P. S29-S34.
- Ryan J.L., Heckler C.E., Ling M., Katz A., Williams J.P., Pentland A.P., Morrow G.R. Curcumin for radia-tion dermatitis: a randomized, double-blind, placebo-controlled clinical trial of thirty breast cancer patients //Radiat Res. 2013. V. 180, N 1. P. 34-43.
- Qin P., Li X., Yang H., Wang Z.Y., Lu D. Therapeutic potential and biological applications of cordycepin and metabolic mechanisms in cordycepin-producing fungi //Molecules. 2019. V. 24, N 12. P. 2231. DOI: 10.3390/molecules24122231.
- Anscher M.S. Targeting the TGF-1 pathway to prevent normal tissue injury after cancer therapy //Oncologist. 2010. V. 15, N 4. P. 350-359.
- Burdelya L.G., Krivokrysenko V.I., Tallant T.C., Strom E., Gleiberman A.S., Gupta D., Kurnasov O.V., Fort F.L., Osterman A.L., Didonato J.A., Feinstein E., Gudkov A.V. An agonist of toll-like receptor 5 has radioprotective activity in mouse and primate models //Science. 2008. V. 320, N 5873. P. 226-230.
- Gudkov A.V., Komarova E.A. Radioprotection: smart games with death // J. Clin. Invest. 2010. V. 120, N 7. P. 2270-2273.
- Atiba A., Abdo W., Ali E., Abd-Elsalam M., Amer M., Monsef A.A., Taha R., Antar S., Mahmoud A. Topical and oral applications of Aloe vera improve healing of deep second-degree burns in rats via modulation of growth factors //Biomarkers. 2022. V. 27, N 6. P. 608-617.
- Akita S. Treatment of radiation injury //Adv. Wound Care (New Rochelle). 2014. V. 3, N 1. P. 1-11.
- Xiao Y., Mo W., Jia H., Yu D., Qiu Y., Jiao Y., Zhu W., Koide H., Cao J., Zhang S. Ionizing radiation induces cutaneous lipid remolding and skin adipocytes confer protection against radiation-induced skin injury //J. Dermatol. Sci. 2020. V. 97, N 2. P. 152-160.
- Akita S., Yoshimoto H., Ohtsuru A., Hirano A., Yamashita S. Autologous adipose-derived regenerative cells are effective for chronic intractable radiation injuries //Radiat. Prot. Dosim. 2012. V. 151, N 4. P. 656-660.
- Brunchukov V., Astrelina T., Usupzhanova D., Rastorgueva A., Kobzeva I., Nikitina V., Lishchuk S., Dubova E., Pavlov K., Brumberg V., Benderitter M., Samoylov A. Evaluation of the effectiveness of mes-enchymal stem cells of the placenta and their conditioned medium in local radiation injuries //Cells. 2020. V. 9, N 12. P. 2558. DOI: 10.3390/cells9122558.
- Popov A.L., Shcherbakov A.B., Zholobak N.M., Baranchikov A.Ye., Ivanov V.K. Cerium dioxide nanopar-ticles as third-generation enzymes (Nanozymes) //Nanosyst.: Phys. Chem. Math. 2017. V. 8, N 6. P. 760-781.
- Caputo F., Giovannetti A., Corsi F., Maresca V., Briganti S., Licoccia S., Traversa E., Ghibelli L. Cerium oxide nanoparticles re-establish cell integrity checkpoints and apoptosis competence in irradiated HaCat cells via novel redox-independent activity //Front. Pharmacol. 2018. V. 9. P. 1183. DOI: 10.3389/fphar.2018.01183.
- Madero-Visbal R.A., Alvarado B.E., Colon J.F., Baker C.H., Wason M.S., Isley B., Seal S., Lee C.M., Das S., Mañon R. Harnessing nanoparticles to improve toxicity after head and neck radiation //Nanomedicine. 2012. V. 8, N 7. P. 1223-1231.
- Popova N.R., Andreeva V.V., Khohlov N.V., Popov A.L., Ivanov V.K. Fabrication of CeO2 nanoparticles embedded in polysaccharide hydrogel and their application in skin wound healing //Nanosyst.: Phys. Chem. Math. 2020. V. 11, N 1. P. 99-109.
- Talakesh T., Tabatabaee N., Atoof F., Aliasgharzadeh A., Sarvizade M., Farhood B., Najafi M. Effect of nano-curcumin on cadiotherapy-induced skin reaction in breast cancer patients: a randomized, triple-blind, placebo-controlled trial //Curr. Radiopharm. 2022. V. 15, N 4. P. 332-340.
- Yu D., Li S., Wang S., Li X., Zhu M., Huang S., Sun L., Zhang Y., Liu Y., Wang S. Development and characterization of VEGF165-chitosan nanoparticles for the treatment of radiation-induced skin injury in rats //Mar. Drugs. 2016. V. 14, N 10. P. 182. DOI: 10.3390/md14100182.
- Schmidt F.M.Q., González C.V.S., Mattar R.C., Lopes L.B., Dos Santos M.F., de Gouveia Santos V.L.C. Topical cream containing nanoparticles with vitamin E to prevent radiodermatitis in women with breast cancer: a clinical trial protocol //J. Wound Care. 2021. V. 30, N 6. P. S44-S50.
- Meephansan J., Rungjang A., Yingmema W., Deenonpoe R, Ponnikorn S. Effect of astaxanthin on cuta-neous wound healing //Clin. Cosmet. Investig. Dermatol. 2017. V. 10. P. 259-265.
- Tavakoli S., Mokhtari H., Kharaziha M., Kermanpur A., Talebi A., Moshtaghian J. A multifunctional nano-composite spray dressing of Kappa-carrageenan-polydopamine modified ZnO/L-glutamic acid for diabetic wounds //Mater. Sci. Eng. C. Mater. Biol. Appl. 2020. V. 111. P. 110837. DOI: 10.1016/j.msec.2020.110837.