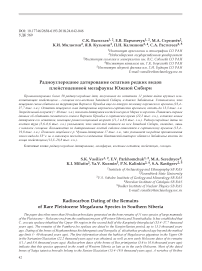Радиоуглеродное датирование остатков редких видов плейстоценовой мегафауны Южной Сибири
Автор: Васильев С.К., Пархомчук Е.В., Середнв М.А., Милютин К.И., Кузьмин Я.В., Калинкин П.Н., Растигеев С.А.
Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas
Рубрика: Археология каменного века палеоэкология
Статья в выпуске: т.XXIV, 2018 года.
Бесплатный доступ
Проанализировано более 50радиоуглеродных дат, полученных по остаткам 11 редких видов крупных млекопитающих плейстоцена - голоцена юго-востока Западной Сибири, а также Забайкалья. Установлено, что пещерная гиена обитала на территории Верхнего Приобья еще во вторую половину каргинского времени (33,4-37,7тыс. л.н.). Остатки пещерного льва датированы каргинско-сартанским временем, вплоть до 13,5тыс. л.н. Запредельный возраст (> 40 тыс. л.н.) показали датировки костей носорога Мерка и зоргелии. Появились первые данные об обитании гигантского оленя в Верхнем Приобье в сартанское время (22,2тыс. л.н.), а также новые датировки его остатков, имеющие раннеголоценовый возраст (11,1 и 8,6 тыс. л.н.). Радиоуглеродные даты по костям тура (5,6-0,6 тыс. л.н.) указывают, что этот вид появился на юге Западной Сибири, очевидно, лишь с началом голоцена. Большинство из датированных костей сайгака относятся к сартанскому времени (15,4- 19,8 тыс. л.н.). Позвонок овцебыка с р. Чумыш датирован 17тыс. л.н., что указывает на редкие проникновения этого вида до 53°с. ш. в максимум последнего оледенения. Кяхтинский винторог обитал в Забайкалье вплоть до конца плейстоцена (13,5-28,8 тыс. л.н.).
Радиоуглеродное датирование, мегафауна, костные остатки, плейстоцен, голоцен
Короткий адрес: https://sciup.org/145145013
IDR: 145145013 | УДК: 569 | DOI: 10.17746/2658-6193.2018.24.042-046
Текст научной статьи Радиоуглеродное датирование остатков редких видов плейстоценовой мегафауны Южной Сибири
На территории Верхнего Приобья, по Оби и еe притокам (Чумыш, Чик, Орда) известен ряд крупных местонахождений остатков плейстоценовой мегафауны. В разрезе Красный Яр (р. Обь в 17 км ниже Новосибирска) многочисленные о ст атки крупных млекопитающих были собраны из слоя in situ . В других крупных аллювиальных местонахождениях по Оби – Тараданово, Бибихе, а также на р. Чумыш – ко сти обнаружены на пляжах и отмелях в переотложенном состоянии. На небольших притоках Оби (р. Чик и Орда) кости, вымытые из береговых террас, обнаруживаются в перемытой толще песка и ила, непосредственно в русле реки. Подобные переотложенные остатки плейстоценовой мегафауны имеют один существенный недостаток – отсутствие чёткой стратиграфической привязки. Она может быть осуществлена лишь приблизительно, с учётом геологического строения находящихся выше по течению разрезов береговых террас. Вместе с тем подобный материал обладает и целым рядом преимуществ, таких как массовая концентрация костей, вымытых из разновременных слоёв, в одном месте (на пляже, отмели), возможность их быстрого сбора без проведения долговременных и затратных поисковых и раскопочных работ [Верещагин, Громов, 1953]. Многолетний опыт показывает, что обнаружить редкие разрозненные кости млекопитающих непо средственно в слоях береговых отложений удаётся лишь в исключительно редких случаях. В зависимости от геологического возраста размываемых костеносных отложений, среди выносимых на пляжи костей могут преобладать остатки среднеплейстоценового возраста (Бибиха) либо начала позднего плейстоцена (казанцевское время, Тараданово). Преимущественно с каргинским интерстадиалом связаны массовые скопления костей по р. Чумыш, Чик и Орда. Наряду с основным объeмом более-менее одновозрастных костных остатков пляжный материал всегда включает также примесь разновременных костей – от раннего и среднего плейстоцена до голоцена и современности включительно. Остатки мегафауны, собранные на вторичных аллювиальных местонахождениях, служат незаменимым материалом для радиоуглеродного датирования. Особенно это касается таких редких видов, как пещерный лев, пещерная гиена, овцебык и др., обнаружить остатки которых возможно лишь при методичном сборе
и исследовании многотысячных скоплений переотложенных костей по берегам рек.
В 2017 г. по остаткам редких видов мегафауны было сделано 30 радиоуглеродных дат. К ним добавлены ранее полученные на ускорительном масс-спектрометре ИЯФ СО РАН датировки, часть из которых ещe не была опубликована (см. таблицу ). Далее во всех случаях приводятся радиоуглеродные (не калиброванные) значения возраста.
Впервые получена прямая 14С дата (36,2 тыс. л.н.) по целому осевому черепу огромного бурого медведя, хранящегося в экспозиции НОКМ (Ново-сиб. обл. краеведческого музея). Череп происходит из слоя синевато-серых пойменных суглинков, залегающих в средней части разреза Красный Яр. Ранее по плечевой и бедренной костям лошади из слоя 4 были получены радиоуглеродные даты: 38 804 ± 770 (NSKA-01061) и 32 450 ± 233 (CN-1068), а по нижней челюсти шерстистого носорога – 38 250 ± 770 (NSKA-01060). Датировки указывают на формирование слоя 4 в завершающую треть каргинского времени.
Продатировано 8 костей пещерной гиены с Чу-мыша и Чика. 4 даты оказались запредельными (более 40 тыс. л.н.), 5 дат свидетельствуют о существовании этого вида в заключительную треть каргинского интерстадиала (33,4–37,7 тыс. л.н.). В Западной Европе наиболее молодые датированные остатки C. crocuta spelaea имеют возраст около 26–27 тыс. л.н. [Stuart, Lister, 2014]. Остатки пещерной гиены в аллювиальных местонахождениях Верхнего Приобья встречаются на порядок реже, чем пещерного льва: соответственно 0,06 и 0,6 % в среднем (от числа всех остатков мегафауны).
В отличие от гиены, пещерный лев продолжал обитать на юге Западной Сибири и в сартанское время. Из 15 полученных дат 5 укладываются в этот временной интервал (13,2–5,1 тыс. л.н.). Целый осевой череп с р. Мосиха (приток р. Иня; коллекция НОКМ) принадлежал некрупной львице, жившей в разгар сартанского оледенения (18 884 ± 677 л.н.). Окончательное вымирание Panthera leo spelaea на юге Сибири произошло, вероятно, вместе с исчезновением здесь (или резким сокращением ареалов и численности) крупных стадных копытных, таких как бизоны и лошади. Наиболее поздние датировки по костям пещерного льва с территории Западной Европы и Восточной Сибири имеют возраст около 12,2–12,4 тыс. л.н. [Stuart, Lister, 2010].
Радиоуглеродные значения возраста костных остатков мегафауны из местонахождений юго-востока Западной Сибири и Забайкалья
|
Вид, местонахождение |
Элемент скелета |
Радиоуглеродный возраст |
Код образца |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Ursus arctos , Красный Яр, 4 слой |
осевой череп |
36 206±1654 |
NSKA-s 560 |
|
C. crocuta spelaea , Чик |
верхняя челюсть |
33 440±533 |
BINP-NSU-1297 |
|
C. crocuta spelaea , Чумыш |
бедренная кость |
34 290±321 |
BINP-NSU-1302 |
|
C. crocuta spelaea , Чик |
фрагмент черепа |
34 961±683 |
BINP-NSU-1299 |
|
C. crocuta spelaea , Чумыш |
лопатка |
37 707±712 |
BINP-NSU-1304 |
|
C. crocuta spelaea, Чумыш |
плечевая кость |
37 713±499 |
NSKA-00810* |
|
C. crocuta spelaea , Чик |
плечевая кость |
> 40 000 |
BINP-NSU-1298 |
|
C. crocuta spelaea , Чумыш |
осевой череп |
> 40 000 |
BINP-NSU-1300 |
|
C. crocuta spelaea , Чумыш |
лучевая кость |
> 40 000 |
BINP-NSU-1301 |
|
C. crocuta spelaea , Чумыш |
бедренная кость |
> 40 000 |
BINP-NSU-1303 |
|
Panthera leo spelaea , Чик |
поясничный позвонок |
13 250±242 |
BINP-NSU-1306 |
|
Panthera leo spelaea , р. Мосиха |
осевой череп |
18 884±677 |
NSKA-s 394 |
|
Panthera leo spelaea , Чумыш |
плечевая кость |
19 381±402 |
NSKA-01077* |
|
Panthera leo spelaea , Чумыш |
тазовая кость |
20 179±1136 |
NSKA-01081* |
|
Panthera leo spelaea , Чумыш |
лопатка |
23 543±418 |
NSKA-01078* |
|
Panthera leo spelaea , Красный Яр, 3 cлой |
лучевая кость |
25 143±825 |
NSKA-s 559 |
|
Panthera leo spelaea , Чумыш |
лопатка |
28 747±2008 |
NSKA-01079* |
|
Panthera leo spelaea , Чумыш |
лучевая кость |
30 070±1753 |
NSKA-01080* |
|
Panthera leo spelaea , Чумыш |
3-й шейный позвонок |
36 434±1779 |
NSKA-01083* |
|
Panthera leo spelaea , Чумыш |
крестец |
36 439±1488 |
NSKA-01082* |
|
Panthera leo spelaea , Чик |
большая берцовая кость |
38 396±499 |
NSKA-00820* |
|
Panthera leo spelaea , Чумыш |
бедренная кость |
40 741±577 |
NSKA-00802* |
|
Panthera leo spelaea , Чумыш |
лучевая кость |
44 337±1148 |
NSKA-00801* |
|
Panthera leo spelaea , Чумыш |
большая берцовая кость |
55 200±727 |
NSKA-00803* |
|
Panthera leo spelaea , Чумыш |
бедренная кость |
> 40 000 |
BINP-NSU-1305 |
|
L. lynx , Чик |
бедренная кость |
8 229±180 |
BINP-NSU-1307 |
|
Stephanorhinus kirchbergensis , Чумыш |
лопатка |
> 40 000 |
BINP-NSU-1296 |
|
Megaloceros giganteus , Чик |
роговая штанга |
8 609±165 |
BINP-NSU-1280 |
|
Megaloceros giganteus , Чик |
плюсневая кость |
11 110±180 |
BINP-NSU-1285 |
|
Megaloceros giganteus , Чик |
пястная кость |
22 180±204 |
BINP-NSU-1279 |
|
Megaloceros giganteus , Чик |
нижняя челюсть |
27 068±313 |
BINP-NSU-1281 |
|
Megaloceros giganteus , Чик |
лопатка |
32 520±591 |
BINP-NSU-1282 |
|
Megaloceros giganteus ,Чик |
астрагал |
34 470±530 |
BINP-NSU-1284 |
|
Megaloceros giganteus , Чик |
плечевая |
38 020±697 |
BINP-NSU-1283 |
|
Bos primigenius , р. Тогул |
фрагмент черепа |
5 623±96 |
BINP-NSU-1287 |
|
Bos primigenius , Чумыш |
пястная кость |
10 241±404 |
NSKA-01090 |
|
Bos primigenius , Чик |
пястная кость |
10 580±118 |
BINP-NSU-1286 |
|
Saiga tatarica borealis , Орда |
1-й шейный позвонок |
15 400±180 |
АА-86173 |
|
Saiga tatarica borealis , Чик |
1-й шейный позвонок |
15 500±214 |
АА-86174 |
|
Saiga tatarica borealis , Чик |
плечевая кость |
17 190±273 |
BINP-NSU-1288 |
|
Saiga tatarica borealis , Орда |
лопатка |
17 250±220 |
BINP-NSU-1288 |
|
Saiga tatarica borealis , Красный Яр, 3 слой |
фрагмент черепа |
17 903±522 |
NSKA-s 563 |
|
Saiga tatarica borealis , Чик |
пястная кость |
19 440±359 |
BINP-NSU-1289 |
|
Saiga tatarica borealis , Чумыш |
плечевая кость |
19 780±438 |
BINP-NSU-1292 |
|
Saiga tatarica borealis , Чик |
плечевая кость |
39 180±861 |
BINP-NSU-1290 |
|
Soergelia cf. elisabethae , Бибиха |
лучевая кость |
> 40 000 |
BINP-NSU-1293 |
|
Soergelia cf. elisabethae , Тараданово |
пястная кость |
> 40 000 |
BINP-NSU-1294 |
|
Soergelia cf. elisabethae , Тараданово |
фрагмент черепа |
> 41 060 |
АА-79331 |
|
Ovibos moschatus , Чумыш |
4-й шейный позвонок |
16 989±183 |
BINP-NSU-1295 |
|
Spirocerus kiakhtensis , Сохатино |
фрагмент черепа |
13 500±423 |
NSKA-s 377 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Spirocerus kiakhtensis , Сохатино |
фрагмент черепа |
14 290± 468 |
NSKA-s 378 |
|
Spirocerus kiakhtensis , Шергольджин |
фрагмент черепа |
18 200±649 |
NSKA-s 382 |
|
Spirocerus kiakhtensis , Санный мыс |
фрагмент черепа |
27 860±1057 |
NSKA-s 379 |
|
Spirocerus kiakhtensis , Санный мыс |
фрагмент черепа |
28 640±1118 |
NSKA-s 381 |
*По: [Васильев и др., 2016].
Приведeнная ранее [Васильев и др., 2016] в списке плейстоценовых видов с р. Чик бедренная кость рыси оказалась раннеголоценового возраста (8 229 ± 180 л.н.).
Немногочисленные о статки но сорога Мерка найдены на Чумыше, в 6 слое Красного Яра, в Би-бихе и Тараданово. Целая лопатка с р. Чумыш показала запредельный возраст – более 40 тыс. л.н. Скорее всего, этот отно сительно теплолюбивый, крупный и длинноногий вид носорога дожил на юге Западной Сибири лишь до времени казанцевского межледниковья.
Ранее уже было получено 8 дат по гигантскому оленю с Чумыша и 1 – с Чика. Все даты с Чумыша относятся к первой – второй трети каргинского времени, в пределах 34,7–53,6 тыс. л.н. [Васильев и др., 2016]. В новых материалах с Чика наряду с 4 датировками каргинского возраста (27–38 тыс. л.н.), оказалась пястная кость, отно сящаяся к началу сартанского времени (22 180 ± 204 л.н.), а также плюсневая кость и роговая штанга раннеголоценового возраста (11 109 ± 180 и 8 609 ± 165 л.н. соответственно). Предыдущая дата по этой же роговой штанге составила 8 832 ± 104 (NSKA-00815). Впервые голоценовые остатки гигантского оленя были открыты на Урале и в Зауралье. Наиболее молодая дата по ним составляет 6 816 ± 35 [Stuart et al., 2004]. Радиоуглеродный возраст костей гигантского оленя из голоценовых памятников Барабинской лесостепи и Северного Приангарья оказался в пределах 7,9–10,3 тыс. л.н. Ареал Megaloceros giganteus в раннем голоцене простирался по лесостепной зоне от Урала до Ангары, где он служил объектом охот неолитического человека [Pliecht et al., 2015]. Время и ме сто существования последних рефугиумов гигантского оленя пока ещё окончательно не установлено. Не исключено, что при продолжении дальнейшего датирования костей Megaloceros giganteus , особенно с Чика, могут быть зафиксированы его о статки моложе 7 тыс. л.н.
Две пястные кости тура с Чумыша и Чика показали возраст 10 241 ± 404 и 10 580 ± 118 л.н. соответственно. Фрагмент черепа с почти полным роговым стержнем тура с р. Тогул (приток Уксу-ная – Чумыша) оказался среднеголоценовым – 5 623 ± 96 л.н. Очевидно, Bos primigenius появля- ется на юге Западной Сибири лишь с началом голоцена. По крайней мере среди более 250 пястных костей бизона с Чумыша (наиболее диагностичных элементов посткраниального скелета на предмет разделения их на роды Bos – Bison) больше не найдено ни одной metacarpale, сходной по морфологии с туром. В других аллювиальных местонахождениях Верхнего Приобья остатки тура также отсутствуют.
Семь из во сьми датированных ко стей сайгака (с Чика, Орды, Чумыша и из 3 слоя Красного Яра) указывают на его обитание на территории Верхнего Приобья в сартанское время, в пределах 15,4–19,8 тыс. л.н. Лишь одна плечевая кость с Чумыша оказалась каргинского возраста (39,2 тыс. л.н.). Остатки сайгака – хороший показатель развития аридных степных ландшафтов, холодных и малоснежных в периоды криохронов.
Ожидаемо запредельными (> 40 тыс. л.н.) оказались датировки по ко стям и фрагменту черепа зоргелии из Тараданово и Бибихи. Ранее остатки зоргелии считались надёжным индикатором раннеплейстоценовых отложений. Однако совершенно неожиданно кости Soergelia cf. elisabethae типичного позднеплейстоценового типа сохранности были найдены в составе мамонтовой фауны сначала в Та-раданово [Васильев, 2010], а позднее – и в Бибихе. На юге Западной Сибири зоргелия, очевидно, дожила до казанцевского времени. Во всяком случае, среди более 12,6 тыс. костей каргинского возраста, собранных на Чумыше, не найдено ни одной кости этого вида.
Большой интере с представляет находка 4-го шейного позвонка овцебыка на Чумыше, на пляже в районе с. Титово. Прямая датировка позвонка (16 989 ± 183 л.н.) указывает на присутствие этого вида на юге Западной Сибири (53º24ʹ с. ш.) в наиболее холодную фазу сартанского времени. Единственная кость (из 12,6 тыс. находок) свидетельствует, вероятнее всего, не о постоянном обитании Ovibos moschatus в районе Чумыша, а о редких проникновениях его стад так далеко к югу в периоды максимума оледенений.
Невозможно обойти вниманием датировки, полученные по фрагментам черепа и роговых стержней кяхтинского винторога из памятников Сохати-но, Санный мыс и Шергольджин в Забайкалье. Они показывают, что эта своеобразная крупная антилопа обитала здесь ещё в каргинско-сартанское время (13,5–28,6 тыс. л.н.) и окончательно исчезла, по-видимому, лишь на рубеже плейстоцена и голоцена. Остатки Spirocerus kiakhtensis были обнаружены также в пещерах Алтая – Усть-Канской, Страшной и Денисовой.
Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 14-50-00036).
Список литературы Радиоуглеродное датирование остатков редких видов плейстоценовой мегафауны Южной Сибири
- Васильев С.К. Остатки зоргелии (Soergelia sp.) в позднем плейстоцене Предалтайской равнины // Эволюция жизни на Земле: мат-лы IV Междунар. симп., 10-12 ноября 2010 г. - Томск: ТМЛ-Пресс, 2010. -С. 537-541.
- Васильев С.К., Середнёв М.А., Милютин К.И., Панов В.С. Сборы остатков мегафауны на реках Чумыш (Алтайский край) Чик и Обь в районе посєли Бибиха (Новосибирская область) в 2016 году // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. - Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2016. - Т. XXII. - С. 23-28.
- Верещагин Н.К., Громов И.М. Сбор остатков высших позвоночных четвертичного периода. - М.: Изд. АН СССР, 1953. - 37 с.
- Stuart A.J., Lister A.M. Extintion chronology of the cave lion Panthera spelaea // Quaternary Sc. Rev., 2011. -N 30. - P. 2329-2340.
- Stuart A.J., Lister A.M. New radiocarbon evidence on the extirpation of the spotted hyaena (Crocuta crocuta (Erxl.)) in northern Eurasia // Quaternary Sc. Rev., 2014. -N 96. - P. 108-116.
- Stuart A.J., Kosintsev P.A., Higham T.F.G., Lister A.M. Pleistocene and Holocene extinction dynamics in giant deer and wooly mammoth // Nature. - 2004. -Vol. 431. - P. 684-689
- Van der Plicht J., Molodin V.I., Kuzmin Y.V., Vasiliev S.K., Postnov A.V., Slavinsky V.S. New Hococene refugia of giant deer (Megaloceros giganteus Blum.) in Siberia: updated extinction patterns // Quaternary Sc. Rev. 2015. - N 114. - P. 182-188