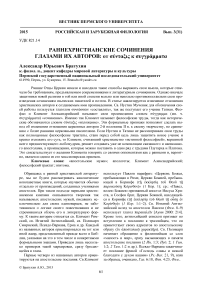Раннехристианские сочинения глазами их авторов: от σύνταξις К συγγράμματα
Автор: Братухин Александр Юрьевич
Журнал: Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология @vestnik-psu-philology
Статья в выпуске: 3 (31), 2015 года.
Бесплатный доступ
Ранние Отцы Церкви искали и находили такие способы выражать свои мысли, которые отве-чали бы требованиям, предъявляемым современниками к литературным сочинениям. Однако вначале защитники новой религии в той или иной степени вольно или невольно противопоставляли свои про-изведения сочинениям языческих писателей и поэтов. В статье анализируется изменение отношения христианских авторов к создаваемым ими произведениям. Св. Иустин Мученик для обозначения сво-ей работы пользуется глаголом συντάσσειν «составлять», так же поступает его ученик Татиан. Фео-фил и Климент Александрийский называют свои произведения словом σύγγραμμα (мн. ч. συγγράμματα) «сочинение». Именно так Климент называет философские труды, тогда как историче-ские обозначаются словом σύνταξις «изложение». Эти формальные признаки позволяют сделать вы-вод об изменении отношения церковных авторов 2-й половины II в. к своему творчеству, по сравне-нию с более ранними церковными писателями. Если Иустин и Татиан не рассматривали свои труды как полноценные философские трактаты, ставя перед собой цель лишь защитить новое учение и кратко изложить его суть, то Климент, считавший христианство «истинной философией», вершиной всего предшествующего любомудрия, решает создавать уже не компиляции сказанного и написанно-го апостолами, а произведения, которые можно поставить в один ряд с трудами Плутарха и Платона. Это свидетельствует о желании Климента говорить со своими оппонентами как с равными и, вероят-но, является одним из его миссионерских приемов.
Короткий адрес: https://sciup.org/14729400
IDR: 14729400 | УДК: 821.14
Текст научной статьи Раннехристианские сочинения глазами их авторов: от σύνταξις К συγγράμματα
Обращаясь к ранней христианской литературе, мы не будем рассматривать канонические новозаветные книги, которые изучаются обычно отдельно от произведений, созданных учениками апостолов. При таком подходе первыми христианскими книгами оказываются творения так называемых апостольских мужей, писавших исключительно для своих единоверцев, не заботившихся о логике своего повествования и не стремившихся облечь его в литературную форму. К таким авторам относятся св. Климент Римский, св. Игнатий Антиохийский, св. Поликарп Смирнский, Псевдо-Варнава, Ерма и др. Каждый из названных авторов ориентировался на тот или иной жанр, представленный прежде всего в Библии, указывая на это в том числе и конкретными формальными знаками. Приведем лишь несколько примеров такой маркировки, сразу бросающейся в глаза.
Первые четверо из названных авторов ориентируются на апостольские послания. Св.Климент использует Павлов парафраз: «Церковь Божья, пребывающая в Риме, Церкви Божией, пребывающей в Коринфе (τῇ ἐκκλησίᾳ τοῦ Θεοῦ τῇ παροικούσῃ Κόρινθον)» (1 Кор. 1); ср.: «Павел, волею Божиею призванный апостол Иисуса Христа, и Сосфен брат, Церкви Божией, находящейся в Коринфе (τῇ ἐκκλησίᾳ τοῦ Θεοῦ τῇ οὖσῃ ἐν Κορίνθῳ)» (1 Кор. 1:1–2). Св. Игнатий Антиохийский вслед за апостолом Павлом (Флм. 8–9) использует глагол παρακαλεῖν [Ауни 2000: 214]. Кроме того, антиохийский епископ признает во вступлении к посланию к траллийцам, что он приветствует своих адресатов по апостольскому образу (ἐν ἀποστολικῷ χαρακτῆρι). Св. Поликарп начинает обращение к филиппийцам со слов «милость и мир», сразу вызывающих в памяти апостольские послания (2 Ин. 1:3; Иуд. 2; 1 Тим. 1:2; 2 Тим. 1:2 и др.). Псевдо-Варнава заканчивает послание фразой «Господь славы и всякой благодати с духом вашим» (Ps.-Bar. 21, 9), взяв за образец, очевидно, Гал. 6:18, Флп. 4:23, Флм..
Черты сходства с «Откровением» Иоанна Богослова имеет принадлежащий к редкому жанру апокалипсисов «Пастырь» Ермы. «Как и Откровение Иоанна , он написан не под псевдонимом и предназначался для чтения перед общинами <…>. <…> носитель откровения представляется словами “Я есмь”» [Ауни 2000: 243–244]. Сын Человеческий повелевает апостолу: «То, что видишь, напиши (γράψον) в книгу (εἰς βιβλίον) и пошли (πέμψον) семи церквам» ( Откр . 1:11). Старица велит Ерме: «Итак, напишешь (γράψεις) две книжицы (βιβλαρίδια) и пошлешь (πέμψεις) одну Клименту и одну Грапте» ( Herm . Pastor 8, 3). Эти и многие другие аллюзии и парафразы, отсылающие к тем или иным новозаветным текстам, косвенно намекают на литературные образцы каждого из названных авторов.
В 20–30-е гг. II в. появляется христианская апологетика. Адресатами апологетов, вышедших «из своего идеологического гетто» [Доддс 2003: 171], стали язычники и иудеи. «Как иудейская, так и христианская апология обращена к представителям власти и эллински образованной культурной элите <…>; соответственно, они написаны в формах греческой литературной традиции, предполагающей адекватное эллину использование греческого литературного языка <…>» [Вдовиченко 2002: 74]. Для своих трудов апологеты искали образцы вне Библии. А. П. Большаков убежден, что «Апологию Сократа» в какой-то мере «можно считать как формально-литературной, так и идейносодержательной предшественницей апологий Христа» [Большаков 2002: 156]. В то же время можно сказать, что последние являются продолжением апологетического направления, «представленного в русле грекоязычной иудейской литературы» [Вдовиченко 2002: 72]. Заметим, что защитники христианства, обращались не только к апологии, но и к другим новым для себя жанрам – к прошению, диалогу, обличению, – потеснившим во II в. послания. В это время появляются дошедшие до нас «Апологии» Аристида (120-е гг.?) и Иустина Мученика (между 150 и 161 гг.), «Слово к эллинам» (до 161 г.) Татиана, «Прошение о христианах» (ок. 177 г.) св. Афина-гора Афинского, «Послание к Автолику» (ок. 180 г.) св. Феофила Антиохийского, «Послания к Диогнету» (между 190 и 200 гг.) неизвестного автора, «Поношение внешних философов» (200 г.) Ермия. Полемику с иудеями ведут Иустин Мученик в «Диалоге с Трифоном иудеем» (сер. II в.) и Аристон из Пеллы в дошедшем до нас во фрагментах «Диспуте (Ἀντιλογία) Иа-сона с Паписком» (140 г.). Особняком стоят «Изречения Секста» (собрание афоризмов, 180–
210 гг.), «Поучения Силуяна» (сер. II – III в.) и труды св. Мелитона Сардийского, прежде всего, сочинение «О Пасхе». Христианские авторы хорошо понимали стоящие перед ними цели. Они, как правило, сообщали о себе такие детали, которые могли доказать их «право» или способность судить в том числе и об эллинской культуре. Св. Иустин упоминает о своем «эллинском происхождении»: «Иустин, <сын> Приска, <внук> Вакхия, <происходящих> из Флавии Неаполя палестинской Сирии» ( Iust . I Apol. 1, 1). Татиан, «рожденный в ассирийской стране» ( Tat. Orat. 42, 1) и не могущий похвастать греческой родословной, подчеркивает свое знание философии: «<…> Мы отреклись от вашей мудрости, несмотря на то, что я был в ней весьма славным (πάνυ σεμνός τις)» ( Tat. Orat. 1, 3). Такие слова вместе со стремлением показать знание «внешних» наук являлись как бы неким пропуском в мир литературной полемики. «Существенной чертой любой апологии <…> является широкое пользование средствами античной риторики. Одним из главных достоинств, которые апологету надлежало проявить перед языческой аудиторией, была всесторонняя эллинская образованность, дававшая, по меньшей мере, право хотя бы приступить к рассуждению о подобных вещах» [Вдовиченко 2000: 29]. Татиан, несмотря на полное неприятие античной культуры, для подтверждения своих тезисов цитировал Аристофана ( Tat. Orat. 1) и Гомера ( Tat. Orat. 8). Афинагор Афинянин, не сообщающий ничего о своем происхождении и образовании, в «Прошении о христианах» приводит цитаты, порой достаточно пространные, из Геродота, Гомера, Еврипида, Эмпедокла, Платона, Гесиода и других языческих авторов, демонстрируя свою образованность делом. И Феофил, не жаловавший, в отличие от Иустина, даже Платона (образ мыслей которого он называет бесполезным и безбожным – Ad Aut. III, 2, а его самого несшим вздор, Ad Aut. III, 16), тем не менее цитирует не только Платона, Тимокла, Аристона, но и Гомера, Гесиода, Арата, Софокла, Еврипида, Пиндара, Архилоха, Симонида и др. Так упомянутые апологеты заявляли о своей способности писать о высоких предметах. Неслучайно два апологета, Иустин и Афинагор, имели прозвание «Философ»; известно, что Иустин продолжал носить плащ философа после обращения в христианство ( Just . Dial. 1, 2; Eus . H.E. IV, 11, 8).
В науке отмечается, что «богословие более ранних апологий, в отличие от сочинений внутренней ориентации, ставило своей целью формирование общего представления о христианстве в глазах язычников, трактуя преимущественно ос- новополагающие вопросы и пытаясь при этом говорить на понятном для аудитории языке. По своим задачам оно было своего рода начальной “азбукой” для непосвященных, способных исследовать новое учение о Боге только путем рассудочного, побуквенного постижения, а не живой веры» [Вдовиченко 2002: 82]. Таким образом, в трудах ранних апологетов не предпринимались попытки не только изобразить христианство последней ступенью на пути человека к Богу, завершением всей предшествующей философской традиции, но и дать систематическое изложение нового учения. Защитники новой религии в той или иной степени вольно или невольно противопоставляли свои произведения сочинениям языческих писателей и поэтов. Во всяком случае, большинство из них не считали создаваемые ими тексты литературными произведениями. Очевидно, в ожидании скорого конца света они не стремились создавать таковые, ставя перед собой сугубо практические цели. Труды названных апологетов, по нашему мнению, рассматривались ими самими как компиляция Христова учения, составленная ими в виде защитительной речи или прошения. Об этом говорит использование ими при описании их работ соответствующего глагола (συντάσσειν) и образованных от него форм. Отметим, что апологеты используют его в значении, отличном от библейского: в Ветхом Завете (Септуагинте) συντάσσειν означал «предписывать (to order, to appoint; to ordain, to prescribe)» [Lust, Eynikel, Hauspie 1996: 460], в Новом – «устанавливать, предписывать (constituere, praecipere)» [Schmoller 1994: 473].
Св. Иустин называет свою первую апологию προσφώνησις «обращение» ( Iust . 1 Apol. 1, 1 и 68, 3), ἔντευξις «просьба» ( Iust. 1 Apol. 1, 1) и ἐξήγησις «разъяснение» ( Iust. 1 Apol. 68, 3), а в конце второй признается: «Если же вы подпишите это <сочинение>, мы сделаем <его> доступным для всех, дабы они, если сие возможно, изменили свое мнение: только ради этого мы составили сии слова (τούσδε τοὺς λόγους συνετάξαμεν)» ( Iust . II Apol. 15, 2). Апологет ставит перед собой конкретную задачу, а для обозначения своей деятельности пользуется глаголом συντάσσειν. Причастие от этого же глагола употребляет Плутарх, говоря о составлении Брутом эпитомы из Полибия ( Plut . Brut. 4, 8). Сам Полибий пишет про Арата, что тот составил (συντεταχέναι) в высшей степени достоверные и понятные записи (ὑπομνηματισμούς) о своих деяниях ( Polyb . Hist. II, 40, 4). В начале второй «Апологии» св. Иустин пишет, используя существительное, образованное от названного глагола: «<…> случившееся <…> вынудило меня
<…> сделать изложение этих вопросов (τὴν τῶνδε τῶν λόγων σύνταξιν)» ( Iust. II Apol. 1, 1). Подобное выражение находим и в «Диалоге с Трифоном иудеем»: «Чтобы вы не думали, что я говорю это только при вас, я сделаю, насколько могу, изложение всей бывшей у нас беседы (τῶν γεγενημένων ἡμῖν λόγων ἁπάντων, ὡς δύναμις μου, σύνταξιν ποιήσομαι)» ( Iust. Dial. 80, 3). О своем не дошедшем до нас сочинении против ересей Иустин пишет как о «составленном трактате» (σύνταγμα συντεταγμένον) ( Iust. 1 Apol. 26, 8), составленными названы и предсказания пророков ( Iust. 1 Apol. 31, 1). В 1 Apol. 2, 3 Иустин называет свой труд γράμματα «записи», а в Dial. 70, 5 он упоминает «слова Писания» (τὰ γράμματα τῶν γραφῶν). От «изложения» Иустин отличает «сочинение», συγγράμματα; этим словом он называет Пятикнижие Моисея ( Iust. 1 Apol. 28, 1; 62, 4; 63, 6), книги всех людей, собранные Птолемеем ( Iust. 1 Apol. 31, 2). В 1 Apol. 67, 3 он упоминает «заметки апостолов и сочинения пророков» (τὰ ἀπομνημονεύματα τῶν ἀποστόλων ἢ τὰ συγγράμματα τῶν προφητῶν, ср.: Iust. Dial. 7, 2). В 2 Apol. 12, 5 он обозначает этим словом сочинения Эпикура и поэтов. Слово βίβλιον, также используемое Иустином для обозначения литературного произведения, встречаем в 1 Apol. 31, 1, Dial. 62, 4, Dial. 75, 1, Dial. 95, 1, Dial. 114, 5, где речь идет о книгах пророков, о книге Иисуса Навина, о книге «Исход», книге Закона, разводном письме соответственно.
Татиан, ученик Иустина, пишет о своей «Речи к эллинам»: «Я не пытаюсь, как есть обыкновение у многих, подкреплять чужими мнениями свое, но желаю составить перечень (τὴν ἀναγραφὴν συντάσσειν) всего, что я сам постиг» ( Tat . Orat. 35, 1). Ниже ( Tat . Orat. 42, 1) он признает: «Это я, философствующий по-варварски, для вас, о, мужи эллины, составил (συνέταξα)». Глаголом συντάσσειν Татиан обозначил также написание писем ( Tat . Orat. 1, 2), изображение битв богов и их любовные похождения ( ibid. 1, 3). В другом месте апологет замечает: «Поспешите, желающие узнать это от нас, когда мы говорим, не <полагаясь ни на свой> язык, ни на подходящие рассуждения и софистическое построение (συντάξεώς τε σοφιστικῆς), но пользуясь словами некоего божественного речения» ( ibid. 12, 5). Для обозначения книг язычников Татиан использует слово βίβλιον ( ibid. 26, 1); этим словом обозначаются книги Геродота ( ibid. 27, 2) и вавилонского жреца Бероза ( ibid. 36, 2). Отметим, что «Речь к эллинам» считали и «вступительным словом» (Eröffnungsrede), λόγος εἰσιτήριος, составленным Татианом для своего дидаскалейона на Востоке, и «протрептиком»
[Elze 1960: 41–43]. Мартин Эльце, сопоставив это произведение с «Прошением» Афинагора, высказал мнение, что фактически слово «Речь» не является апологией в узком смысле этого слова, но по содержанию совпадает с апологетическими сочинениями в существенных пунктах [ibid.: 53]. Татиан, очевидно, не придавал особого значения форме создаваемого текста. Д. Е. Афиногенов замечает: «Сочинение Татиана выделяется тем, что имеет как бы коллективного адресата, и в этом смысле ближе скорее к более поздним полемическо-проповедническим произведениям. Однако по особенностям содержания и общей тональности “Слово к эллинам” должно быть все же отнесено именно к ранней апологетике. Ибо основная цель Татиана заключается не в том, чтобы привлечь своих оппонентов к христианству, обратить их, но лишь в том, чтобы добиться терпимости и определенного уважения к новой вере. Здесь и пролегает рубеж, отделяющий “Слово к эллинам” Татиана от, например, соответствующего произведения Климента Александрийского, озаглавленного уже “Увещевание к эллинам” (“Протрептик”)» [Афиногенов 2000а: 81]. К жанру «увещевания» Д. Е. Афиногенов относит и сочинение Псевдо-Мелитона [Афиногенов 2000б: 135].
Если для Иустина и для Татиана их сочинения были лишь «составленными» компиляциями христианского учения, «изложениями», то Афи-нагор рассматривал свое «Прошение» (πρεσβεία «ходатайство, заступничество») как «слово», «речь»: «Вы будете научены сим словом (ὑπὸ τοῦ λόγου), что мы страдаем несправедливо и вопреки всякому закону и разуму» (Leg. 1, 3; ср. 9, 1; 11, 1). Он пишет ниже: «…разрешите здесь, когда слово, <соединенное> с великим воплем, стало доступным слуху, откровенно возгласить, как защищающему дело перед царями-философами (ἐπιτρέψατε ἐνταῦθα τοῦ λόγου ἐξακούστου μετὰ πολλῆς κραυγῆς γεγονότος ἐπὶ παῤῥησίαν ἀναγαγεῖν, ὡς ἐπὶ βασιλέων φιλοσόφων ἀπολογούμενον)» (Leg. 11, 3). В завершение «Прошения» он называет себя «предпринявшим опровержение обвинений (διαλελυμένος τὰ ἐγκλήματα ἐπιδεδειχώς)» (37, 1), ср.: «<Лакедемоняне> желают скорее войной, чем словами опровергать обвинения (τὰ ἐγκλήματα διαλύεσθαι)» (Thuc. I, 140, 2–3). Такая оценка Афинагором своего труда говорит в пользу того, что он создавал его как защитительную речь, которая хотя и не могла быть произнесенной перед адресатами, однако формально должна была быть отнесенной к произведениям ораторского искусства. Относительно приписываемого Афинагору философского сочинения «О воскресении», которое счи- тается первым трактатом, посвященным этой теме [Киприан 1996: 134], было высказано предположение, что оно было создано в третьем или четвертом веке и обращено против учения Оригена о воскресении [Grant 1954: 129]. Глагол συντάσσειν Афинагор не употребляет.
Феофил (2-я пол. II в.), автор трех книг «К Автолику», замечает о языческих писателях, поэтах и философах: «Они составили (συνέταξαν) мифы и глупые россказни о своих богах» (Ad Aut. II, 8). В отличие от Иустина и Татиана, Феофил называет свой труд σύγγραμμα (Ad Aut. II, 1). Этим словом во множественном числе (τὰ συγγράμματα) он обозначает сочинения философов, поэтов и вообще все небиблейские тексты (Ad Aut. II, 3; III, 23). Словом γράμματα он называет Священное Писание (Ad Aut. II, 30; II, 31; III, 23 дважды; III, 26; III, 29), сочинение Мане-фона (Ad Aut. III, 21), записи тирийцев (Ad Aut. III, 22), книги греческие и египетские (Ad Aut. III, 26), халдейские (Ad Aut. III, 29), письменность как таковую (Ad Aut. III, 30). Таким образом, он типологически не разграничивает эти памятники. В начале первой книги «К Автолику» он заявляет, что любитель истины не обращает внимания на раскрашенные слова (λόγοις μεμιαμμένοις), но рассматривает суть слова (τὸ ἔργον τοῦ λόγου), что это и каково оно (Ad Aut. I, 1). Во второй книге Феофил, повторяя слова апостола Павла εἰ δὲ καὶ ἰδιώτης τῷ λόγῳ ( 2 Кор . 11:6), признается, что он «несведущ в слове» (κἂν ἰδιώτης ὦ τῷ λόγῳ). Эти дежурные фразы сами по себе ни о чем не говорят, однако, учитывая, что Феофил называет свой трактат «живым гласом» (ζώσα φωνή) (Ad Aut. II, 38) и говорит, что Автолик должен познать вздорность остальных составителей (τῶν λοιπῶν συνταξάντων τὴν φλυαρίαν) ( Theoph . Ad Aut. III, 1), становится ясным, что апологет не допускал и мысли о сходстве между своим трудом и философскими трудами язычников. «Живой глас» (т. е. «устную речь») упоминал в письме Цицерон ( Cic . Ad Att. II, 12, 2). Порфирий пишет: «<…> в обиходе имеют обыкновение говорить: услышать от живого голоса, а не услышать посредством написанных слов (ἐν τῇ συνηθείᾳ εἰώθασι λέγειν παρὰ ζώσης φωνῆς ἀκηκοέναι καὶ μήτε διὰ γραπτῶν λόγων ἀκοῦσαι) <…>» (Quaest. Hom. IV, 434, cр.: Bas . Apol. contra Arianos 84, 4; Epist. 57, 1). Евсевий Памфил, епископ Кессарийский, приводит цитату из Паппия (ок. 130 г.), где этот древнецерковный автор ( Eus . H. E. III, 39, 4) признается: «Если же приходил какой-нибудь последователь старцев, я расспрашивал <их> о словах старцев, чтó сказал Андрей или Петр, или Филипп, или Фома или Иаков, или Иоанн, или
Матфей или кто-то другой из учеников Господа, и что Аристон и старец Иоанн, ученики Господа, говорят. Ибо я полагал, что мне не будет так полезно <взятое> из книг, как <заимствованное> из живого и сохраняющегося <в памяти> гласа (οὐ γὰρ τὰ ἐκ τῶν βιβλίων τοσοῦτόν με ὠφελεῖν ὑπελάμβανον ὅσον τὰ παρὰ ζώσης φωνῆς καὶ μενούσης)». Таким образом, Феофил рассматривал свой трактат как своеобразный конспект изустной христианской традиции.
Св. Ириней Лионский, автор пяти книг «Против ересей», обращался к христианской аудитории (формальным адресатом был некий друг святителя). Поставив перед собой целью разоблачить «лжеименное знание», лионский епископ признается, что он не изучал словесного искусства (λόγων τέχνην), не имеет способности сочинителя (δύναμιν συγγραφέως) и несведущ в словесных украшениях (καλλωπισμὸν λέξεων). Свой труд он обещает писать просто, истинно и безыскусно (ἁπλῶς καὶ ἀληθῶς καὶ ἰδιωτικῶς) ( Iren . Adv. haer. pro. 3). Хотя эти слова (как и похожее утверждение Феофила) могут выражать стремление автора не казаться салонным оратором, составляющим красивые речи для услаждения публики, но быть скрупулезным исследователем, пишущим только по делу («простота (ἀφέλεια) – одна из возможных риторических программ, предусмотренных риторической системой» [Аверинцев 1991: 17]), Ириней предстает перед нами как писатель, не рассматривавший себя создающим трактаты, предназначенные конкурировать с трактатами языческих мыслителей. В этом он напоминает греческих апологетов. Глагол συντάσσειν в сохранившемся греческом тексте Иринея отсутствует.
Рассмотрим теперь употребление глагола συντάσσειν Климентом Александрийским. Как Афинагор и Феофил, он не пользуется этим глаголом при описании своей работы, употребляя его, когда речь идет о толковании Демокритом стелы с иероглифами (Strom. I, 15, 69, 4), письмах Атоссы (Strom. I, 16, 76, 10), книжке «Против иудеев» Апиона (Strom. I, 21, 101, 3), «Мопсове искусстве прорицания» Батта (Strom. I, 21, 133, 1), «Иудейской истории» Иосифа Флавия (Strom. I, 21, 147, 2), истории Геродота (Strom. III, 4, 36, 5), истории о судье Бокхориде (Strom. IV, 18, 115, 1), «Первом послании» апостола Петра (Clem. Alex. apud Eus . H.E. II, 15, 2). В Strom. V, 14, 97, 7 автор Маккавейских книг назван составившим эпитому (ὁ συνταξάμενος τὴν τῶν Μακκαβαïκῶν ἐπιτομή), так же характеризуется Гекатей, «составитель истории об Аврааме и египтянах» (Strom. V, 14, 113, 1). Климент говорит о составителях
«истории об острове Британии» (Strom. VI, 3, 33, 2), «персидской истории» (Strom. VI, 3, 33, 4). Словом σύνταξις обозначается сочинение Исидора «Толкование на пророка Пархора» (Strom. VI, 6, 53, 4). Разные «жанры» появляются вместе в Strom. VIII, 7, 22, 4: «Полны книгохранилища, изложения и исследования (αἱ θῆκαι τῶν βιβλίων καὶ αἱ συντάξεις καὶ αἱ πραγματεῖαι) <авторов>, противоречащих в учениях и убежденных, что они познали истину». В «Пророческих эклогах» Климент употребляет рассматриваемое слово в значении конспекта живой речи: «Ведь беспрепятственно и со стремительностью несется поток говорящего, могущий тотчас же пленять; читающими же всякий раз испытываемый, достигая точного исследования, заслуживает высшего попечения, и его можно назвать письменным подтверждением учения, когда голос и к рожденным позже таким образом через сочинение (διὰ τῆς συντάξεως) доставляется» (Ecl, 27, 3). Глагол συντάσσειν в значении «составлять литературное произведение» у Климента используется в Strom. IV, 9, 70, 1: «составим вместе написанное различно(τὰ διαφόρως γεγραμμένα συντάξωμεν)». Климент признается, что он составил книгу «О Пасхе» по поводу сочинения Мелитона (Eus. H.E. IV, 26, 4); слово о природе составил (συνέταξεν) Алкмеон (Strom. I, 16, 78, 3); «к “Законам” <Платон> присоединил (συνέταξεν) философа во “Второзаконии”» (Strom. I, 25, 166, 1); Феопомп и Тимей составили мифы и богохульства (Strom. I, 1, 1, 2). В самом начале «Стромат» он заявляет: «Смешно, пожалуй, отвергнув писание (γραφήν) серьезных людей, принимать <писания> не таковых составителей (συντάττοντας)» (Strom. I, 1, 1, 1); при этом сам этот труд Климент называет «сочинением» (τὰ συγγράμματα) (Strom. I, 1, 1, 1; II, 1, 2, 2), как Феофил, только во множественном числе. Именно это слово характеризует также сочинение Демокрита (τοῖς ἰδίοις συντάξαι συγγράμμασι) (I, 15, 69, 4); «Демодока» как вероятное сочинение Платона (I, 19, 93, 1); сочинение Гераклита (I, 21, 129, 4); сочинение об иудеях Александра Полигистора (I, 21, 130, 3); сочинение об иудеях Артепана (I, 23, 154, 2); сочинение еретика Епифана (III, 2, 5, 2); сочинения апостолов (IV, 21, 134, 1); сочинения Аристотеля (V, 9, 58, 3); физическое сочинение Тимея Локрского (V, 14, 115, 4); в Strom. V, 14, 101, 4 упомянуты ποιήματα (поэтические произведения) и συγγράμματα (прозаические произведения), в которых воспевается Зевс. Таким образом, сочинения исторические, как правило, характеризуются как «изложения», сочинения же философские – как собственно «сочинения». Любопытно, что у Галена, которого Климент, скорее всего, читал, συγγράμματα противопоставлены ὑπομνήματα «воспоминания, наброски» (LSJ). Климент же, намекнув в начале «Стромат», что его труд относится к συγγράμματα, ниже заявляет, что пишет «наброски» (Strom. I, 1, 11, 1). Здесь следует заметить, что слово στρωματεύς (мн. ч. στρωματεῖς) со значением «patchwork» использовалось в качестве названия литературного произведения смешанного содержания [Liddell, Scott, Jones 1996: 1656]. Жанр «Стромат» был, по словам Андре Меа, очень распространенным (très répandu) [Méhat 1966: 101], слово ὑπομνήματα также вызывало ассоциации с заголовками античных классических сочинений [ibid.: 106–107].
Мы видим, как изменяется взгляд христианских авторов второго века на свое творчество: если для Иустина и Татиана оно представлялось кратким изложением христианского учения, то Климент начал рассматривать создаваемые им произведения как философские трактаты. Этот вывод можно сделать на основании анализа использования тем или иным церковным писателем глаголов и существительных, характеризующих процесс написания им сочинений и сами эти сочинения соответственно.
THE EARLY CHRISTIAN TREATISES FROM THEIR AUTHORS’ POINT OF VIEW: from σύνταξις to συγγράμματα
Alexander Ju. Bratukhin
Associate Professor in the Department of World Literature and Culture
Perm State University
Список литературы Раннехристианские сочинения глазами их авторов: от σύνταξις К συγγράμματα
- Аверинцев С. С. Античная риторика и судьбы античного рационализма//Античная поэтика. Риторическая теория и литературная практика. М.: Наука, 1991. C. 3-26
- Ауни Д. Новый Завет и его литературное окружение/пер. с англ. В. В. Полосина; под ред. А. Л. Хосроева. СПб.: Российское Библейское Общество, 2000. 272 с
- Афиногенов Д.Е. Татиан и его "Слово к эллинам" в историческом контексте//Раннехристианские апологеты II-IV вв. Переводы и исследования. М.: Ладомир, 2000а. С. 80-92
- Афиногенов Д. Е. Псевдо-Мелитон: проблемы веры и власти в одном раннесирийском тексте//Раннехристианские апологеты II-IV вв. Переводы и исследования. М.: Ладомир, 2000б. С.133-149
- Большаков А.П. Раннехристианские апологии: происхождение и содержание//Древний Восток и античный мир: труды кафедры истории Древнего мира истор. фак-та МГУ. М.: ЭкоПресс-2000, 2002. Вып. 5. С. 151-165
- Вдовиченко А. В. Христианская апология. Краткий обзор традиции//Раннехристианские апологеты II-IV вв. Переводы и исследования. М.: Ладомир, 2000. C. 5-38
- Вдовиченко А. В. Дискурс -текст -слово. Статьи по истории, библеистике, лингвистике, философии языка. М.: Изд-во Православного Свято-Тихоновского Богословского института, 2002.288 с
- Доддс Э. Р. Язычник и христианин в смутное время: Некоторые аспекты религиозных практик в период от Марка Аврелия до Константина/пер. с англ. А.Д. Пантелеева и А.В. Петрова; общ. ред. Ю.С. Довженко. СПб.: ИЦ «Гуманитарная Академия», 2003. 320 c
- Киприан (Керн), архимандрит. Патрология. Париж; Москва: Правосл. Свято-Сергиевский Богослов. Ин-т, Правосл. Свято-Тихоновский Богослов. Ин-т, 1996. Т.1. 185 с
- Elze M. Tartian und seine Theologie. Gottingen: Vandenhoeck und Ruprecht, 1960. 137 S
- Grant R. M. Athenagoras or Pseudo-Athenagoras//Harvard Theological Review. 1954. Vol. 47. P. 121 -129
- Liddell H. G., Scott R., Jones H. S. A Greek-English Lexicon compiled by H. G. Liddell and R. Scott. A new edition revised and augmented throughout by H. S. Jones. Oxford, 1996
- Lnst J., Eynikel E., Hanspie K. A Greek-English Lexicon of the Septuagint compiled by J. Lust, E. Eynikel, K. Hauspie with the collaboration of G. Chamberlain. Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft, 1996. Part II. P. 218-528
- Mehat A. Etude sur les 'Stromates' de Clement d'Alexandrie. Paris: Editions du Seuil, 1966. 580 p
- Schmoller A. Handkonkordanz zum griechischen Neuen Testament . Stuttgart: Deutsch Bibelgesellschaft, 1994. 534 S