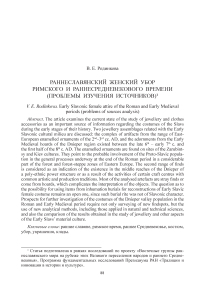Раннеславянский женский убор римского и раннесредневекового времени (проблемы и изучение источников)
Автор: Родинкова В.Е.
Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran
Рубрика: Проблемы и материалы
Статья в выпуске: 233, 2014 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается современное состояние изучения ювелирных изделий и аксессуаров одежды как важного источника информации о костюмах славян на ранних этапах их истории. Обсуждаются две коллекции ювелирных изделий, связанные с раннеславянской культурной средой: комплекс артефактов из ряда восточно-европейских эмалевых украшений 2-го-3-го куб. См. AD, а украшения из раннесредневековых кладов Днепровского региона существовали между конца 6 - начала 7 вв. и в первой половине восьмого в. ОБЪЯВЛЕНИЕ. Эмалированные украшения находятся на участках Зарубинтской и Киевской культур. Они указывают на вероятное участие протославянского населения в общих процессах, проводимых в конце римского периода в значительной части лесной и лесостепной зон Восточной Европы. Второй диапазон находок рассматривается как указание на существование в среднем течении Днепра полиэтнической структуры власти или в результате деятельности некоторых ремесленных центров с общими художественными и производственными традициями. Большинство анализируемых артефактов - это случайные находки или происходят из кладов, что усложняет интерпретацию объектов. Вопрос о возможности использования предметов из погребальных погребений для реконструкции раннеславянского женского костюма остается открытым, поскольку такой погребальный обряд не был славянским. Перспективы дальнейшего изучения костюмов населения долины Днепра в римский и ранне-средневековый периоды требуют не только обзора новых находок, но и использования новых аналитических методов, в том числе применяемых в естественных и технических науках, а также сравнения результаты, полученные при изучении ювелирных изделий и других аспектов материальной культуры ранних славян.
Ранние славяне, римское время, раннее средневековье, костюм, убор, украшения, клады
Короткий адрес: https://sciup.org/14328623
IDR: 14328623
Текст научной статьи Раннеславянский женский убор римского и раннесредневекового времени (проблемы и изучение источников)
Изучение того, что сегодня принято называть индивидуальными находками, – отдельных ярких предметов и вещевых комплексов разных культур и эпох – составляло неотъемлемую часть археологии уже на этапе ее становления. В середине XX в., когда приоритет в отечественной науке был отдан созданию масштабных исторических реконструкций с акцентом на социально-экономические отношения, вещеведение отступило на второй план. Однако по мере накопления материала и совершенствования методов его анализа стало очевидно, что «индивидуальные находки» представляют собой самостоятельный источник информации о прошлом, по значению не уступающий таким определяющим элементам материальной культуры, как принципы домостроительства, погребальный обряд, наборы керамических форм и т. д. И к концу прошлого столетия вещеведение вновь утвердилось на позиции одного из ведущих направлений археологических исследований.
Особое внимание специалистов всегда привлекали украшения и предметы убора2. Традиционно использование их в качестве хронологических индикаторов, показателей торгово-обменных связей, источника информации о ювелирном производстве и др. Кроме того, считается, что костюм, прежде всего женский, отражает этнографическую специфику древних коллективов и потому является важнейшим маркером этнокультурных процессов. Правда, рассматривая вещи в таком контексте, необходимо учитывать особенности исторической ситуации, в которой они существовали. Например, многочисленные исследования показали, что характер костюмного комплекса в период римского влияния и эпоху Великого переселения народов определялся взаимодействием двух, на первый взгляд, противоречащих друг другу факторов. С одной стороны, это консерватизм традиционных обществ, в которых кос-тюм/убор представлял собой систему жестко связанных элементов, обусловленную в том числе мировоззренческими и религиозными представлениями своих носителей. В таком смысле он был «закрытой» системой, существовавшей в определенной этнокультурной среде и мало восприимчивой к новациям и внешним воздействиям. С другой стороны, для интересующего нас времени можно говорить о возникновении интернациональной моды и престижного костюма, демонстрировавшего не столько этническую принадлежность, сколько высокий социальный и имущественный статус владельца (Мастыко-ва, 2009. С. 7–10; Яценко, 2006. С. 7, 18, 19; и др.). Сложное взаимодействие автохтонных и заимствованных элементов женского убора, имеющих различ- ные источники и механизмы формирования, отмечает Н.В. Жилина на древнерусском материале (Жилина, 2011; 2012).
Неоднозначная ситуация сложилась и вокруг изучения костюма славян на начальных этапах их истории. Собственно, с раннеславянской культурной средой соотносятся два комплекса украшений и предметов убора. Первый – изделия круга восточноевропейских выемчатых (или «варварских») эмалей. В основном они датируются второй половиной II – III в. н. э., но отдельные вещи третьего периода развития стиля, по мнению исследователей, могут доживать до гуннского времени ( Обломский, Терпиловский , 2007. С. 120–124). Второй – так называемые древности антов3 или предметы круга днепровских раннесредневековых кладов, которые разделяются на две группы ( Щеглова , 1990). Вещевой набор I группы, зафиксированный в кладах типа Мартыновского, был распространен с конца VI / рубежа VI–VII вв. до третьей четверти VII в. ( Гавритухин , 1996а; Родин кова , 2012. С. 157, 158). Изделия, составляющие II группу и отложившиеся в Пастырских, Харьевском (в современной украинской литературе – Харив-ском) и прочих подобных комплексах, находились в употреблении между третьей четвертью VII и началом / серединой VIII в. ( Приходнюк, Хардаев , 1998. С. 258; Родинкова , 2011. С. 247).
И украшения с «варварскими» эмалями, и «древности антов» известны cо второй половины XIX в. Первым их систематизировал А.А. Спицын (1903; 1928), позже были созданы фундаментальные своды Г.Ф. Корзухиной (1978; 1996). Долгое время интересующие нас вещи существовали вне конкретного культурно-исторического и археологического контекста. Лишь в середине – второй половине XX в. в Поднепровье были выделены киевская и позднезарубинецкая культуры римского времени, в носителях которых сегодня принято видеть предков исторических славян, и колочинская и пеньковская культуры эпохи раннего Средневековья, которые большинство исследователей считают раннеславянскими. Находки на позднезарубинецких и киевских памятниках изделий с эмалью (Терпиловский, Абашина, 1992. С. 65, 67, 69, 162; Обломский, Терпиловский, 2007. С. 128, 131, 133; Обломский, 2010. С. 59–61), а на колочинских и пеньковских – предметов, составляющих клады типа Мартыновского (Родинкова, 1996. С. 156–161), в целом решили проблему этнической атрибуции рассматриваемых вещевых наборов4, хотя дискуссия по ряду частных вопросов продолжается по сей день (см., напр.: Зиньковская, 2011. С. 72–76; Гавритухин, 2011. С. 180). В славянской волынцевской среде могли быть распространены и украшения, за- фиксированные в днепровских раннесредневековых кладах II группы. Во всяком случае, Харьевский клад найден в лепном горшке, подражающем гончарному сосуду волынцевского типа (Березовець, 1952. С. 109, 118; Этнокультурная карта…, 1985. С. 121, рис. 22, 33–59; Гавритухин, Щеглова, 1996б. С. 133).
Хронологическую лакуну второй половины V – VI в. в ареале колочинской и пеньковской культур заполняют находки ювелирных изделий разных типов и категорий, однако единый костюмный комплекс они не образуют. Говорить о реконструкции некоторых моделей убора можно лишь на основе анализа материалов ряда погребений по обряду ингумации ( Гавритухин , 2004; Родинкова , 2007. С. 362, 363), но славянская атрибуция этих памятников сомнительна.
Аналогичная ситуация сложилась в отношении пражской культуры, традиции которой, в отличие от колочинских и пеньковских, прослеживаются вплоть до эпохи Древней Руси. Одна из наиболее ярких находок этого круга – комплекс каменных литейных форм с поселения Бернашовка ( Винокур , 1997). Изготавливавшиеся в них подвесные и нашивные украшения иногда соотносят с женским убором ( Щеглова , 1999. С. 300; и др.), а И.С. Винокур даже реконструировал на их основе женские очелье, пояс и некоторые другие элементы костюма ( Винокур , 1997. С. 158–160, рис. 51–53). Необходимо, однако, подчеркнуть гипотетический характер предложенных реконструкций. Данных, подтверждающих принадлежность изделий, отливавшихся в формах из Берна-шовки, и им подобных к женскому вещевому комплексу пока нет. Разрозненные находки фибул, браслетов, пряжек и других предметов (Этнокультурная карта…, 1985. С. 81, 83, рис. 15, 21–40 ) также не позволяют в полной мере представить убор представительниц пражских племен.
Следует отметить резкий контраст между общей бедностью раннеславянской материальной культуры, в которой металлические изделия редки, а основную категорию находок составляет груболепная керамика, и «эмалевым» и «антским» костюмными комплексами, характеризующимися богатством состава и включающими многочисленные серебряные, латунные, бронзовые, свинцово-оловянные, стеклянные, янтарные и другие украшения. Объяснение этого феномена многое бы добавило к нашему пониманию историко-культурной ситуации, сложившейся в Восточной Европе в конце античной эпохи и начале раннего Средневековья, но оно пока не найдено.
Обратимся к особенностям распространения предметов с выемчатой эмалью и изделий круга днепровских раннесредневековых кладов. «Варварские эмали» известны на огромной территории от побережья Ботнического залива и Прикамья до Крыма и Северного Кавказа ( Корзухина , 1978. Карта-вклейка5). При этом, как уже указывалось в литературе, выделяются очаги концентрации находок, где, вероятно, было налажено производство подобных изделий, в том числе Юго-Восточная Прибалтика, Поднепровье (ареал киевской культуры), Ок-ско-Деснинский регион. Причины и механизмы столь широкого распространения единой моды, сравнительно быстро охватившей большую часть различных в этническом отношении групп населения лесной и лесостепной зон Восточной
Европы, неясны. По-видимому, мы имеем дело с археологическим отражением каких-то общих процессов, активными участниками которых в конце эпохи римских влияний оказались и праславянские племена носителей киевской культуры.
Основной ареал украшений и предметов убора, зафиксированных в раннесредневековых кладах I группы, – Среднее Поднепровье и левобережье Днепра от Поросья и Потясминья на западе до бассейна Оскола и Северского Донца на востоке и от Среднего Подесенья на севере до Днепровских порогов на юге. За пределами очерченной территории отдельные такие вещи известны в По-дунавье, Верхнем Поднепровье, Поочье, Южном Побужье, а в массовом порядке – в Юго-Западном Крыму. Недавно были введены в научный оборот находки пальчатых фибул и других изделий днепровских типов на р. Воронеж в Липецкой области, которые А.М. Обломский рассматривает в контексте расселения славян и освоения ими новых территорий ( Обломский , 2012а. С. 193, 196, 198).
Исследователи неоднократно подчеркивали тот факт, что обладающий внутренним единством комплекс «древностей антов» I группы связан с близкими, но все же различающимися по основным своим характеристикам археологическими культурами: колочинской и пеньковской. При этом основная территория распространения рассматриваемых древностей не совпадает полностью ни с ареалом колочинских, ни с ареалом пеньковских племен. Иными словами, интересующий нас вещевой набор обладает локальной спецификой, в одно и то же время он был в употреблении у разных, хотя и родственных групп славян. А находки подобных украшений в женских погребениях по обряду ингумации на территории пеньковской культуры (список памятников и анализ материала см.: Синиця , 1999) показывают, что «мартыновский» убор использовали и представители неславянского населения (см. ниже).
На сегодняшний день предложены две основные интерпретации этого феномена. И.О. Гавритухин и А.М. Обломский полагают, что вещевой комплекс, известный по кладам I группы, свидетельствует о формировании в Поднепровье к VII в. полиэтничного политического объединения, элита которого выделяла себя на окружающем фоне особым костюмом ( Гавритухин, Обломский , 1996. С. 145; Обломский , 2011; 2012б). О.А. Щегловой принадлежит другая точка зрения, согласно которой «древности антов» – принадлежности не элитарной, а рядовой культуры. Их находки маркируют рынок сбыта продукции нескольких ремесленных центров, объединенных общими художественными и производственными традициями, которые не столько удовлетворяли спрос, сколько формировали моду и вкусы местных жителей ( Щеглова , 1999. С. 290, 309, 310; Щеглова, Гаври тухин , 2013. С. 151–153). По нашему мнению, однако, неразрешимого противоречия между представленными позициями нет. Появление «мартыновского» комплекса украшений могло стать результатом функционирования нескольких ювелирных мастерских, совместная деятельность которых осуществлялась при поддержке и под защитой властной структуры, нуждавшейся в визуальном выражении своего существования и «сформировавшей заказ» на создание нового убора ( Родинкова , 2010а. С. 388; 2011. С. 260, 261).
Как источник изучения костюма, изделия круга восточноевропейских выемчатых эмалей и «древности антов» обладают определенной спецификой, требующей особых методов анализа и особого отношения к полученным выводам. В литературе неоднократно отмечалось, что большая часть этих вещей представляет собой случайные единичные находки или происходит из кладов – комплексов, не позволяющих определить назначение, место и связь конкретных предметов в системе убора, а фиксирующих лишь набор более или менее одновременных артефактов. Наибольшее количество вопросов вызывают украшения с эмалью. На современном уровне знаний многие из них – «диадемы», ажурные цепи, пластинчатые «пояса» – даже не могут быть однозначно интерпретированы как элементы личного убора, а не «статусные» вещи, отражающие особое положение своих владельцев в социуме, к примеру, символы княжеской власти или детали ритуального облачения жреца. Не установлена и половозрастная принадлежность большей части предметов. Практически единственная попытка найти основу для выявления половозрастных различий в уборе, включавшем изделия круга выемчатых эмалей, была предпринята А.Г. Фурасьевым (2001). Проведя корреляцию материалов 12 комплексов (преимущественно кладов) по 10 признакам, исследователь выделил наборы, характерные, по его мнению, для костюма замужних и незамужних (вдовых) женщин, девушек, мужчин и юношей, не достигших брачного возраста. Однако специфика изучаемых памятников не позволяет признать предложенную А.Г. Фурасьевым аргументацию достаточной, а возможности проверки сделанных им выводов по другим источникам ограничены (Родинкова, 2007. С. 366, 367).
Большинство украшений, составляющих днепровские раннесредневековые клады II группы, считаются женскими. Данная точка зрения подкрепляется наблюдениями над древностями других территорий и общими рассуждениями о характерном для женского костюма использовании парных фибул, ожерелий, серег и т.д. Прямых подтверждений она не имеет. Между тем, браслеты или шейные гривны, представленные в днепровских кладах, как категории украшений, вне ареала «древностей антов» хорошо известны не только в женских, но и в мужских комплексах. Примером могут служить браслеты из мужских привилегированных погребений гуннского и постгуннского времени, таких, как могила короля Хиль-дерика в Турнэ ( Werner , 1980; список находок и ссылки на прочую литературу см.: Засецкая и др ., 2007. С. 48–54). Использование гривен и браслетов в мужском костюме традиционно для племен, оставивших рязано-окские могильники, и населения Юго-Восточной Прибалтики (см., например: Воронина, Зеленцова, Энго-ватова , 2005. С. 98; Kazakevičius , 1993. 69, 70, 109, 125, 137, 200 pav.; и др.).
В кладах I группы присутствуют ременные гарнитуры так называемого геральдического стиля, традиционно соотносимые с мужской субкультурой. Остальные украшения «мартыновского» круга – головные венчики, гривны, височные кольца, разнообразные подвески, фибулы, бусы, браслеты, нашивные бляшки и проч. – так сказать, методом исключения связываются с женским убором. Эта атрибуция в целом подтверждается материалами из погребений, хотя вопрос, насколько правомерны подобные сопоставления, остается открытым (см. ниже). Вместе с тем среди инвентаря наиболее представительного женского захоронения в Мохначе были зафиксированы небольшая пряжка без щитка и поясной наконечник (Аксенов, Бабенко, 1998. С. 115, рис. 3, 7, 8). Указанные находки – аргумент в пользу предположения, что пояс и, следовательно, поясные украшения у раннесредневекового населения Поднепровья были элементами не только мужского, но и женского костюма; не исключено присутствие в этом костюме и обуви на ремнях (Гавритухин, Щеглова, 1996а. С. 51, 52; Щеглова, 1999. С. 295, 307).
Обращение при воссоздании раннеславянского убора к такому традиционному для подобных изысканий источнику, как материалы погребений, требует специального обсуждения. Славянский погребальный обряд в дохристианскую эпоху – кремация с небольшим количеством сопровождающих вещей или вовсе безынвентарная – малоинформативен с точки зрения исследования костюма. И изделия круга выемчатых эмалей, и предметы, составляющие днепровские раннесредневековые клады (I группы), встречены в ингумациях, как вне территории распространения раннеславянских памятников, так и в ее пределах. Учитывая сказанное выше, стоит, однако, предполагать, что эти захоронения принадлежат представителям неславянского этноса, следовательно не исключено, что происходящие из них материалы отражают неславянские традиции использования украшений и аксессуаров. Кроме того, при интерпретации погребального инвентаря следует учитывать возможные различия между «живой» и «мертвой» культурой. Вещи, помещаемые в могилу, могли подвергаться обрядовым действиям (например, ритуальному переворачиванию), призванным подчеркнуть новое состояние индивидуума, и в результате занимали в костюме иное положение по сравнению с тем, что было характерно для них при жизни владельца ( Щеглова , 1999. С. 303). Таким образом, находки из ингумаций имеют для реконструкции раннеславянского костюма опосредованное значение, их привлечение к анализу в данном контексте базируется на серьезных методических допущениях.
Тем не менее, взвешенный подход, комплексное изучение источников и внимание к деталям даже в столь сложной ситуации позволяют достичь положительных результатов. Показательны в этом отношении исследования О.А. Щегловой ( Щеглова , 1999; 2001; Щеглова, Егорьков , 2000; и др.). Ею предложены функциональные определения ряда предметов из кладов I группы, назначение которых было неясно, высказаны предположения о связи некоторых типов вещей с возрастным и брачным статусом их владелиц. На основании наблюдений над разворотом иглоприемников фибул сделан вывод о бинарности женского раннеславянского костюма, имевшего «левую» и «правую» стороны. Продолжая работу в направлении, заданном В.М. Горюновой (1987), О.А. Щеглова привлекла к анализу не только сравнительно немногочисленные находки свинцово-оловянных украшений из кладов типа Мартыновского, но и происходящие с широкой территории формы для их отливки. В итоге она пришла к заключению, что такие изделия, в том числе нашивки на ткань, играли в раннесредневековом костюме населения Восточной Европы гораздо более важную роль, чем принято было думать ранее.
Особенность современного этапа развития археологической науки вообще и исследования вещевых комплексов Поднепровья в частности – резкое увеличение количества материала за счет находок, полученных в результате нелегальных раскопок археологических памятников (Макаров, 2004; Зеленцова, 2010; и др.). Лишь очень небольшая часть этого материала (часто не без помощи правоохранительных органов) попадает в музеи и становится доступна для изучения (Родинкова, 2010б; Радюш, Щеглова, 2012; Ахмедов, Обломский, Радюш, 2013; и др.), важнейшей частью которого является обследование специалистами места находки. Сведения, полученные таким образом, способны существенно дополнить и даже изменить сложившиеся представления о составе и значении комплексов и об исторической ситуации в Поднепровье в конце эпохи римских влияний и начале Средневековья. Например, исследования на участке, откуда происходит клад из Суджи-Замостья, сделали возможным предположение о его символическом характере (Родинкова, Сапрыкина, Сычева, 2012).
Приведем еще один пример. До недавнего времени информация, имевшаяся в нашем распоряжении, не позволяла считать массовой категорией украшений круга «древностей антов» I группы бусы из стекла и камня. В большинстве кладов типа Мартыновского они не зафиксированы вовсе (Трубчевск, Мартыновка, Малый Ржавец, Нижняя Сыроватка, Мена, Углы, Вильховчик, Первое Цепляе-во), в Новосуджанском и Хацковском представлены единичными экземплярами (8 и 1 соответственно), лишь в составе сокровища из Козиевки/Новой Одессы отмечены около 75 бус, а в Колосково – 168 ( Приходнюк, Падин, Тихонов , 1996; Корзухина , 1996, кат. № 26, 27, 64, 80, 81, 84, 85, 93, 127, 128; Приходнюк , 1980. С. 129; Дьяченко , 1978). Однако в результате просеивания и промывки грунта в местах обнаружения кладов этой группы, ставших известными в последние два десятилетия в Курской области, было выявлено значительное количество каменных и стеклянных бус, в том числе бисера. В Гапоново их 88 ( Мастыкова , 1996), Куриловке – 33 ( Родинкова , 2010б. С. 86, рис. 5, 16–31 ), Черкасской Конопельке – более 40, Судже-Замостье – более 7306. Приведенные данные позволяют в новом свете оценить степень доступности рассматриваемого вида украшений для раннесредневекового населения Поднепровья, место, которое бусы занимали в уборе, уровень развития торговли и стеклообрабатывающего производства, направления связей и т. д.
Перспективы изучения раннеславянского костюма видятся не только на «экстенсивном» пути применения традиционных подходов к новым находкам, но и в использовании новых методик, в том числе разработанных в естественных и технических науках, для анализа ранее накопленного материала. Важно также «увязать» между собой результаты исследований вещевого набора и других сторон материальной культуры ранних славян, осуществляющихся, по нашему мнению, во многом независимо друг от друга. Вообще назрела необходимость качественных изменений в понимании такого явления, как украшения и предметы убора, обусловленная в том числе значительным увеличением количества материала в последнее время. Сложный и неоднозначный костюмный комплекс, отразившийся в кладах изделий с эмалью и «древностей антов», остается важнейшим источником изучения позднеримского и раннесредневекового периодов истории Поднепровья, и его возможности отнюдь не исчерпаны.
Список литературы Раннеславянский женский убор римского и раннесредневекового времени (проблемы и изучение источников)
- Аксенов В.С., Бабенко Л.И., 1998. Погребение VI-VII вв. н. э. у села Мохнач//РА. № 3. С. 111-122.
- Ахмедов И.Р., Обломский А.М., Радюш О.А., 2013. Клад из Суземского района Брянской области//Археологические исследования в Еврорегионе «Днепр» в 2012 г/Ред. О.А. Макушников. Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины. С. 99-107.
- Березовець Д.Т., 1952. Харiвський скарб//Археологiя. VI. С. 109-119.
- Бобровська О.В., 2000. Намисто та пiдвiски у вбраннi населення черняхiвської культури: дисс.. канд. iст. наук. Київ. 460 с.
- Воронина Р.Ф., Зеленцова О.В., Энговатова А.В., 2005. Никитинский могильник: публикация материалов раскопок 1977-1978 гг./Отв. ред. А.В. Энговатова. М.: ИА РАН. 176 с. (Труды отдела Охранных раскопок Ин-та археологии РАН; т. 3.)
- Винокур I.С., 1997. Слов'янськi ювелiри Поднiстров'я (за матерiалами дослiджень Бернашiвського комплексу середини I тис. н.е.)/Ред. П.П. Толочко. Кам'янець-Подiльський: Oium. 200 с., iл.
- Гавритухин И.О., 1996. Датировка днепровских кладов первой группы методом синхронизации с древностями других территорий//Гавритухин И.О., Обломский А.М. и др. Гапоновский клад и его культурно-исторический контекст/Ред. Г.Е. Афанасьев, И.П. Русанова. М. С. 58-95. (Раннеславянский мир; вып. 3.)
- Гавритухин И.О., 2004. Среднеднепровские ингумации второй половины V -VI в.//Культурные трансформации и взаимовлияния в Днепровском регионе на исходе римского времени и в раннем Средневековье: докл. науч. конф., посвященной 60-летию со дня рождения Е.А. Горюнова (Санкт-Петербург, 14-17 ноября 2000 г)/Ред. В.М. Горюнова, О.А. Щеглова. СПб.: Петербургское Востоковедение. С. 208-220. (Труды ИИМК; т. 11).
- Гавритухин И.О., 2011. Рец. на: Айбабин А.И., Хайрединова Э.А. Могильник у с. Лучистое. Т. 1. Симферополь; Керчь, 2008//РА. № 2. С. 177-181.
- Гавритухин И.О., Обломский А.М., 1996. Днепровское Левобережье на заре Средневековья: динамика историко-культурных процессов и клады//Гавритухин И.О., Обломский А.М. и др. Гапоновский клад и его культурно-исторический контекст/Ред. Г.Е. Афанасьев, И.П. Русанова. М. С. 140-148. (Раннеславянский мир; вып. 3).
- Гавритухин И.О., Щеглова О.А., 1996а. Комплектность клада и реконструкция гарнитур//Гавритухин И.О., Обломский А.М. и др. Гапоновский клад и его культурно-исторический контекст/Ред. Г.Е. Афанасьев, И.П. Русанова. М. С. 47-53. (Раннеславянский мир; вып. 3)
- Гавритухин И.О., Щеглова О.А., 1996б. Хронология начальных фаз памятников волынцевского круга//Гавритухин И.О., Обломский А.М. и др. Гапоновский клад и его культурно-исторический контекст/Ред. Г.Е. Афанасьев, И.П. Русанова. М. С. 133-136. (Раннеславянский мир; вып. 3.)
- Горюнова В.М., 1987. К вопросу об оловянных украшениях «антских» кладов//Археологические памятники эпохи железа Восточноевропейской лесостепи: межвуз. сб. науч. тр./Отв. ред. A.Д. Пряхин. Воронеж: Изд-во Воронежского ун-та. С. 85-93.
- Дьяченко А.Г., 1978. Технология изготовления предметов из Цепляевского клада раннеславянского времени//Использование методов естественных наук в археологии: сб. науч. тр./Отв. ред. B.Ф. Генинг. Киев: Наукова думка. С. 27-35.
- Жилина Н.В., 2010. Убор из украшений в соотношении с костюмом//Мода и дизайн: исторический опыт -новые технологии: материалы 13-й Междунар. науч. конф./Ред. Н.М. Калашникова. СПб.: СПГУТД. С. 35-40.
- Жилина Н.В., 2011. Теория влияний и своеобразия (на примере древнерусского драгоценного убора)//Труды III (XIX) Всероссийского археологического съезда. Т. II/Отв. ред. Н.А. Макаров, Е.Н. Носов. СПб.; М.; Великий Новгород: ИИМК РАН. С. 141-143.
- Жилина Н.В., 2012. Теория влияний и своеобразия на примере древнерусского драгоценного убора//Археологические вести. вып. 18/Гл. ред. Е.Н. Носов. СПб.: Дмитрий Буланин. С. 253-281.
- Засецкая И.П., Казанский М.М., Ахмедов И.Р., Минасян Р.С., 2007. Морской Чулек. Погребения знати из Приазовья и их место в истории племен Северного Причерноморья в постгуннскую эпоху. СПб.: Изд-во Гос. Эрмитажа. 212 с.: ил.
- Зеленцова О.В., 2010. Сохранение археологического наследия и проблема грабительских раскопок//III Северный археологический конгресс: доклады/Ред. А.В. Головнев. Екатеринбург; Ханты-Мансийск: Изд. дом «ИздатНаукаСервис». С. 314-320.
- Зиньковская И.В., 2011. О новом ареале укРАшений круга выемчатых эмалей//РА. № 2. С. 72-80.
- Корзухина Г.Ф., 1978. Предметы убора с выемчатыми эмалями V -первой половины VI в. н. э. в Среднем Поднепровье. Л.: Наука. 123 с., илл. (САИ; Е1-43/Под общ. ред. Б.А. Рыбакова).
- Корзухина Г.Ф., 1996. Клады и случайные находки вещей круга «древностей антов» в Среднем Поднепровье//Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии. Вып. V/Ред.-сост. А.И. Айбабин. Симферополь: Таврия. С. 352-435.
- Магомедов Б.В., 2001. Черняховская культура. Проблема этноса. Lublin. 276 с.
- Макаров Н.А., 2004. Грабительские раскопки как фактор уничтожения археологического наследия России//Сохранение археологического наследия России: «Круглый стол» Совета Федерации (19 марта 2004 г.). М.: Издание Совета Федерации. С. 13-24.
- Мастыкова А.В., 1996. Бусы//Гавритухин И.О., Обломский А.М. и др. Гапоновский клад и его культурно-исторический контекст/Ред. Г.Е. Афанасьев, И.П. Русанова. М. С. 42-46. (Раннеславянский мир; вып. 3.)
- Мастыкова А.В., 2009. Женский костюм Центрального и Западного Предкавказья в конце IV -середине VI в. н. э./Отв. ред. В.Б. Ковалевская. М.: ИА РАН. 502 с.
- Обломский А.М., 2010. Памятники типа Картамышево-2 и Терновки-2//Позднезарубинецкие памятники на территории Украины (вторая половина I -II в. н. э.)/Отв. ред. А.М. Обломский. М.: ИА РАН. С. 54-66. (Раннеславянский мир; вып. 12).
- Обломский А.М., 2011. О взаимоотношении оседлого и кочевого населения лесостепного Поднепровья в VII в. н. э.//Труды III (XIX) Всероссийского археологического съезда. Т. II./Отв. ред. Н.А. Макаров, Е.Н. Носов. СПб.; М.; Великий Новгород: ИИМК РАН. С. 83-85.
- Обломский А.М., 2012а. Раннесредневековые памятники Верхнего Подонья. Предварительные итоги исследования//Тамбовские древности. Археология Окско-Донской равнины: Археологический сборник/Отв. ред. С.И. Андреев. Тамбов: Издательский дом ТГУ им. Г.Р. Державина. Вып. 3. С. 172-229.
- Обломский А.М., 2012б. Структура населения лесостепного Поднепровья в VII в. н. э.//Древнейшие государства Восточной Европы: ежегодник/Отв. ред. Е.А. Мельникова. 2010 год: Предпосылки и пути образования Древнерусского государства. М.: Русский Фонд Содействия Образованию и Науке. С. 10-34.
- Обломский А.М., Терпиловский Р.В., 2007. Предметы убора с выемчатыми эмалями на территории лесостепной зоны Восточной Европы (дополнение сводов Г.Ф. Корзухиной, И.К. Фролова и Е.Л. Гороховского)//Памятники киевской культуры в лесостепной зоне России (III -начало V в. н. э.)/Отв. ред. А.М. Обломский. М.: ИА РАН. С. 113-141. (Раннеславянский мир; вып. 10).
- Приходнюк О.М., 1980. Археологiчнi пам'ятки Середнього Приднiпров'я VI-IX ст. н. е. Київ: Наукова думка. 152 с.
- Приходнюк О.М., Падин В.А., Тихонов Н.Г., 1996. Трубчевский клад антского времени//Материалы I тыс. н. э. по археологии и истории Украины и Венгрии/Отв. ред. О.М. Приходнюк. Киев: Наукова думка. С. 79-102.
- Приходнюк О.М., Хардаев В.М., 1998. Харивский клад//Archaeoslavica. 3. Kraków. S. 243-278.
- Радюш О.А., Щеглова О.А., 2012. Волниковский «клад» и Курское Посеймье в эпоху Великого переселения народов/Отв. ред. О.А. Шаров. Курск: Курский гос. музей археологии. 48 с., 100 илл.
- Родинкова В.Е., 1996. Раннесредневековые памятники среднего Поднепровья и Днепровского Левобережья с датирующими находками//Гавритухин И.О., Обломский А.М. и др. Гапоновский клад и его культурно-исторический контекст/Ред. Г.Е. Афанасьев, И.П. Русанова. М. С. 155-162. (Раннеславянский мир; вып. 3).
- Родинкова В.Е., 2007. Система женского раннесредневекового убора Среднего Поднепровья (ретроспективный анализ)//Восточная Европа в середине I тысячелетия н. э./Отв. ред. И.О. Гавритухин, А.М. Обломский. М.: ИА РАН. С. 358-388. (Раннеславянский мир; вып. 9).
- Родинкова В.Е., 2010а. Костюмный комплекс населения Поднепровья в раннесредневековое время: особенности формирования, характер, историческое значение//Интеграция археологических и этнографических исследований: сб. науч. тр. Ч. 1/Ред. М.Л. Бережнова, С.Н. Корусенко, Р.С. Хакимов, Н.А. Томилов. Казань; Омск. С. 386-390.
- Родинкова В.Е., 2010б. Куриловский клад РАннесредневекового времени//РА. № 4. С. 78-87.
- Родинкова В.Е., 2011. Женский костюм днепровских племен в эпоху Великого переселения народов: современное состояние исследований//Новые исследования по археологии стран СНГ и Балтии: материалы Школы молодых археологов (Кириллов, 3-12 сентября 2011 г.)/Отв. ред. B.Е. Родинкова. М.: ИА РАН. С. 239-265.
- Родинкова В.Е., 2012. Новая находка византийского серебряного сосуда с клеймом в Восточной Европе//РА. № 4. С. 151-158.
- Родинкова В.Е., Сапрыкина И.А., Сычева С.А., 2012. Раннесредневековые клады Поднепровья: традиционный взгляд и новые данные//Проблемы истории и археологии Украины: материалы VIII Междунар. науч. конф. (9-10 ноября 2012 г.). Харьков: ООО «НТМТ». C. 72.
- Синиця Е.В., 1999. Ранньосередньовiчнi iнгумацiї в ареалi пенькiвської культури//Vita Antiqua. № 2/Гол. ред. М.I. Гладких. Київ. С. 98-110.
- Спицын А.А., 1903. Предметы с выемчатою эмалью//Записки Отделения русской и славянской археологии Императорского Русского Археологического общества. Т. V Вып. 1.
- Спицын А.А., 1928. Древности антов//Сборник статей в честь академика А.И. Соболевского, изданный ко дню 70-летия со дня его рождения/Под ред. акад. В.Н. Перетца. Л.: АН СССР. С. 492-495.
- Терпиловский Р.В., Абашина Н.С., 1992. Памятники киевской культуры/Отв. ред. Д.Н. Козак. Киев: Наукова думка. 224 с. (САИ).
- Фурасьев А.Г., 2001. Половозрастные наборы украшений круга варварских выемчатых эмалей//Отделу археологии Восточной Европы и Сибири 70 лет: тез. науч. конф./Науч. ред. А.Ю. Алексеев. СПб.: Изд-во Гос. Эрмитажа. С. 29-34.
- Щеглова О.А., 1990. О двух группах «древностей антов» в Среднем Поднепровье//Материалы и исследования по археологии Днепровского Левобережья: сб. науч. тр. Вып. 1/Отв. ред. Р.В. Терпиловский. Курск. С. 162-204.
- Щеглова О.А., 1999. Женский убор из кладов «древностей антов»: готское влияние или готское наследие?//Неславянское в славянском мире/Ред. Р.А. Рабинович. СПб.; Кишинев; Одесса. С. 287-312. (Stratum plus. № 5/1999).
- Щеглова О.А., 2001. Конструктивные особенности пальчатых фибул Поднепровья и их место в женском костюме//Ювелирное искусство и материальная культура: тез. докл. участников VIII коллоквиума (11-16 окт. 1999 г.)/Науч. ред. Н. Захарова. СПб.: Изд-во Гос. Эрмитажа. С. 147-151.
- Щеглова О.А., Гавритухин И.О., 2013. Раннеславянские культуры Среднего Поднепровья и локальные шкалы соседних регионов: в поисках хронологического репера//Принципы датирования памятников эпохи бронзы, железного века и средневековья: материалы российско-германского коллоквиума (Санкт-Петербург, 2-3 декабря 2013 г.)/Ред. Е.Н. Носов и др. СПб.: ИИМК РАН: СПбГУ. С. 147-157.
- Щеглова О.А., Егорьков А.Н., 2000. Литейные формочки из Бернашовки и свинцово-оловянные украшения раннесредневековых кладов Днепровского левобережья//Ювелирное искусство и материальная культура: тез. докл. участников VII коллоквиума (8-14 апр. 1999 г.)/Науч. ред. Н. Захарова. СПб.: Изд-во Гос. Эрмитажа. С. 110-112.
- Этнокультурная карта территории Украинской ССР в I тыс. н. э., 1985/Отв. ред. В.Д. Баран. Киев: Наукова думка. 184 с.
- Яцєнко С.А., 2006. Костюм древней Евразии: ираноязычные народы. М.: Восточная литература. 664 с.
- Kazakevičius V., 1993. Plinkaigalio kapinynas. Vilnius. 219 p. (Lietuvos archeologija; kn. 10).
- Tempelmann-Mączyńska M., 1989. Das Frauentrachtzubehör des mittel-und osteuropäischen Barbaricums in der römischen Kaiserzeit. Kraków: Jagiellonen-Universität. 228 s.
- Werner J., 1980. Der goldene Armring des Frankenkönigs Childerich und die germanischen Handgelenkringe der jüngeren Kaiserzeit. (Mit einem Anhang von L. Pauli)//Frühmittelalterliche Studien. 14. S. 1-49.