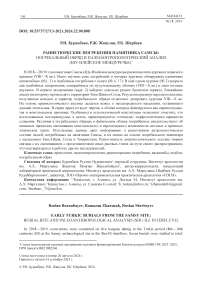Раннетюркские погребения памятника Самсы: погребальный обряд и палеоантропологический анализ (Шу-Илейское междуречье)
Автор: Буранбаев Р.Н., Жанузак Р.Ж., Шербаев Р.К.
Журнал: Материалы по археологии и истории античного и средневекового Причерноморья @maiask
Статья в выпуске: 18, 2024 года.
Бесплатный доступ
В 2018-2019 гг. на памятнике Самсы в Шу-Илейском междуречье раскопано пять курганов тюркского времени (VIII-X вв.). Всего изучено семь погребений: в четырех курганах обнаружены единичные катакомбные (№1, 3) и подбойные погребения с конем (№ 4, 17). В ещё одном кургане (№ 2) вскрыто два подбойных захоронения, совершённых по мусульманскому обычаю (VIII-X вв.) и одно позднее впускное. В первом захоронении (кург. 2) найдено довольно редкое бронзовое зеркало, ближайшие аналогии которому происходят с территории Тянь-Шаня и Согда. Результаты радиоуглеродного анализа, полученные находки и характер погребального обряда позволяют датировать курганы VIII-X вв. На основе краниологического анализа делается вывод о неоднородности населения, оставившего данный могильник. В серии присутствуют черепа, в облике которых фиксируются как европеоидные, так и монголоидные признаки. Особенности остеологической конституции позволяют отметить, что исследованные посткраниуумы, в целом, характеризуются «степным» морфологическим вариантом сложения. Различия в погребальных обрядах и физическом облике погребённых свидетельствуют об активных процессах смешивания монголоидного и европеоидного компонентов местных и пришлых этнических групп. Полученные данные дают информацию о разнотипном антропологическом составе людей, погребённых на памятнике Самсы, и их связях на основе погребального инвентаря с населением Тянь-Шаня, Согда и Тохаристана. Разнотипность антропологического состава тюрков связана с их смешиванием с представителями иных расовых типов на пути своего распространения, что подтверждается в работах других исследователей.
Археология, палеоантропология, раннетюркские погребения, катакомбы, подбои, погребальный обряд
Короткий адрес: https://sciup.org/14131539
IDR: 14131539 | DOI: 10.53737/2713-2021.2024.22.90.008
Текст научной статьи Раннетюркские погребения памятника Самсы: погребальный обряд и палеоантропологический анализ (Шу-Илейское междуречье)
Введение. Шу-Илейское междуречье славится значительной концентрацией тюркских памятников. В 1886 г. первое археолого-этнографическое описание западной части Жетысу выполнил геоботаник А.Н. Краснов во время рекогносцировочной поездки через Шу-Илейские горы к оз. Балхаш, в ходе которой зафиксировал памятники тюркского времени (Садуакасулы, Железняков 2016: 5). После него в 1897 г. археолог-любитель Н.Н. Пантусов задокументировал поминальные мемориалы с каменными скульптурами тюрков (Рогожинский 2020: 65). Впервые захоронения тюркского периода здесь раскопаны в 1954 г. в ходе Илийской экспедиции Института истории, археологии и этнографии АН КазССР в зоне будущего затопления Капчагайской ГЭС (Акишев 1956). В дальнейшем тюркские погребения на этой территории были обнаружены в с. Красный фронт в Чуйском районе Кыргызстана (Шер 1961), совхозе Алатау (юго-вост. окраина совр. г. Алматы) (Курманкулов 1980), ущелье Сулу-Коян (НА ИА КН МНВО РК. Д. 2110), с. Жанатурмыс (Нурмуханбетов и др. 2012), Актерек (Айтқұл 2016; 2019; Айтқұл и др. 2018), Бутакты (Горячев, Мотов 2018) и с. Алмалык (Tulegenov et al. 2021). К проблеме формирования физического облика тюркского населения Казахстана и сопредельных территорий обращался ряд авторов (Гинзбург 1963; Исмагулов 1969; Тур 1989: 126; Миклашевская 1959: 304—309; Комаров, Китов 2016). Антропологический состав тюрков Жетысу рассмотрен в работах О. Исмагулова (Исмагулов 1968; 1970: 57—74).
В 2018—2019 гг. в долине р. Самсы в 500 м к юго-востоку от одноименного средневекового городища (Жамбылский р-н, Алматинская обл.) ТОО «Научно-экспериментальная практическая археология «НЭПА» провела исследования 24-х курганов на могильнике и трёх курганов в 2 км западнее от него1 (рис. 1)* (*Иллюстрации к статье подготовлены авторами. Благодарим Ильяра Камалдинова и Михаила Антонова за помощь в подготовке рисунков). В могильнике есть погребения эпохи энеолита, раннего железа, Средневековья и Нового времени. Здесь в
№ 18. 2024
двух насыпях № 4 и 17 обнаружены подбойные захоронения с конём. В курганной группе в насыпях № 1 и 3 совершены погребения в катакомбах с конём, в кургане № 2 — выявлено два подбойных захоронения без коней и одно позднее впускное.
Целью работы является сопоставление и анализ погребального обряда, а также введение в научный оборот новых данных по краниологии и остеологии населения древнетюркского времени Шу-Илейского междуречья.
Методика исследований. При написании статьи использовались общенаучные методы исследования — описательный, обобщающий, сравнительно-сопоставительный, сравнительноисторический и аналитический. Скелетные останки людей изучены на базе лаборатории физической антропологии Института археологии имени А.Х. Маргулана. Антропологические материалы представлены шестью скелетами хорошей степени сохранности. Комплексная диагностика пола и возраста погребённых, а также обработка источников по краниометрическим и остеометрическим программам осуществлялись в соответствии с классическими методическими разработками (Алексеев, Дебец 1964; Алексеев 1966). Биометрические данные были обработаны методами описательной и многомерной статистики в пакетах программ MicrosoftExcel и Statistica. Оценка размеров костей и индексов посткраниального скелета осуществлялась с использованием нескольких рубрикаций (Пежемский 2011; Хохлов, Григорьев 2020). При фиксации патологических изменений и травматических повреждений на скелетах использовались специальные работы по данной тематике (Рохлин 1965; Бужилова 2005). Краниометрические и остеометрические данные представлены в таблицах № 1 и 2.
Описание курганов. Курган № 1 (диаметр — 15 м, высота — 0,7 м) (рис. 2: 1—2 ; 3: 1 ). Представлял собой насыпь полусферической формы. Перед началом раскопок её проре́зали стратиграфической траншеей на предмет наличия культурного слоя22. Из траншеи были выбраны фрагменты лепной керамики и коленчатая ручка лепного сосуда с налепом в верхней части. В процессе раскопок под дёрном мощностью 0,3 м обнажился завал (5,8 × 4,4 м) из сырцовых кирпичей светло-серого цвета. Кирпичи (37 × 22 × 9 см) частично расколоты и сильно оплыли. Под завалом находилась яма (3,8 × 2,4 м, глубина 0,6 м) заполненная сырцовыми кирпичами и их обломками. Возможно, здесь располагалось позднее впускное погребение с надмогильным сырцовым сооружением, впоследствии разрушенное грабителями.
Под ямой проявилась входная могильная яма (размеры: 2,9 × 1 м, глубина 1,2 м от поверхности ямы и 2,8 м от вершины насыпи), потревоженная грабителями. В ней найдены фрагмент сланцевой зернотёрки, серебряное кольцо (диаметр 2,3 см, ширина 2 см, толщина 0,1 см), кости лошади и собаки. Через 2,1 м могильная яма под углом 90º переходит к катакомбе. Катакомба (2,6 × 1,6 × 1 м) длинной стороной ориентирована по линии север— юг. Перекрытие обрушено грабительским лазом. В южной половине катакомбы расчищено скопление человеческих костей (трубчатые кости, рёбра, позвонки и нижняя челюсть). Здесь же западнее обнаружены три мелкие бронзовые заклёпки. Верхняя часть черепа находилась на противоположном крае катакомбы. Скелет принадлежал женщине 45—55 лет. Антропологический тип — монголоидный.
Курган № 2 представлял собой насыпь полусферической формы (диаметр — 10 м, высота — 0,7 м). Посередине имеется воронка диаметром 1 м и глубиной 0,3 м. В западной половине раскопа на глубине 1,2—1,4 м обнаружены три могильные ямы (рис. 2: 3 ; 3: 4 ).
Захоронение № 1 находилось в южной части западного сектора (рис. 2: 4 ). Грунтовая яма подпрямоугольной формы (1,65 × 0,8 м, глубина 1,5 м), длинной стороной ориентирована по линии северо-запад—юго-восток. С юго-западной стороны находился подбой (1,55 × 0,5 × 0,6 м). В верхней части подбой заложен двумя рядами сырцовых кирпичей подпрямоугольной формы (40 × 25 × 10 см) со следами пальцевых вдавлений. Кладка состояла из двух рядов кирпичей:
2 Данный курган в реестре памятников Алматинской обл. не значился.
№ 18. 2024
Раннетюркские погребения памятника Самсы: погребальный обряд и палеоантропологический анализ (Шу-Илейское междуречье)
первый ряд уложен плашмя, второй поставлен на ребро и верхним краем примыкал к своду подбоя. Индивидуум лежал на спине головой на северо-запад, череп чуть приподнят и немного повёрнут лицом в правую сторону. Правая рука уложена вдоль тела, кисть левой — в области таза. Ноги чуть согнуты в коленях и наклонены в правую сторону. Скелет имеет незаконченные ростовые процессы (расовый тип и пол не определяются). С левой стороны черепа находилось бронзовое дисковидной (диаметр 11 см) формы зеркало (рис. 4: 1 ). Оно тонкое (толщина 0,2 см), слегка изогнутое и отполировано с обеих сторон, с петелькой в центральной части. Лицевая сторона гладкая, на оборотной — штампом нанесены две окружности, состоящие из 12-ти и восьми кружков с точкой по центру. В районе груди найден кулон из белого полупрозрачного агата, уплощённого в сечении, подпрямоугольной формы со скруглёнными краями (2,7 × 1,1 × 0,5 см). С верхнего края продета бронзовая, в сечении круглая, несомкнутая проволочка с отростком на конце (рис. 4: 2 ). На левом бедре индивида находились три мелких фрагмента неопределимого железного изделия. Справа от левой ноги — массивный бронзовый литой перстень (диаметр шинки — 2 см, толщина 0,3—0,5 см). Каст образован за счёт утолщения шинки. Он имеет вид усечённой шестигранной пирамиды, которая в верхней части переходит в обжимное кольцо в форме шестигранника. В него вставлен чёрный непрозрачный камень подовальной формы (рис. 4: 3 ).
Захоронение № 2 находилось в 1,7 м севернее первого захоронения. Грунтовая яма имела подпрямоугольную форму (2,3 × 0,5 м, глубина 0,4 м) и также ориентирована длинной стороной по линии северо-запад—юго-восток. С юго-западной стороны на 0,25 м ниже ямы находился подбой (1,7 × 0,5 м) с обрушившимся перекрытием. Скелет мужчины 35—45 лет уложен на спину головой на северо-запад, правая рука уложена вдоль тела, кисть левой — на таз. В районе ступни левая нога уложена на правую, которая чуть согнута в колене. Погребальный инвентарь отсутствует. Антропологический тип — европеоидный.
Захоронения № 1 и 2 совершены по мусульманскому обычаю.
Захоронение № 3 находилось между двух погребений в грунтовой могиле (1,8 х 0,5 м, глубина 0,2 м), длинной стороной ориентированной по линии восток—запад с небольшим отклонением. В ней расчищен скелет женщины 30—35 лет, ориентированный головой на запад. Погребённая уложена на спину, череп чуть приподнят, руки уложены вдоль тела. Антропологический тип — европеоидный. Захоронение, скорее всего, является впускным. На это указывает стратиграфия профиля, где по центру имелась воронка, ориентировка погребённого головой на запад и более высокий по отношению к остальным уровень погребения.
Курган № 3 до начала раскопок представлял собой насыпь полусферической формы (диаметр — 10,8 м, высота — 0,5 м). По центру насыпи имелась воронка диаметром 2 м и глубиной 0,3 м. В восточной части насыпи, на глубине 0,25—0,3 м, обнаружены фрагменты костей лошади — позвонки, рёбра, копыта. Здесь же, на глубине 0,8 м, найдены фрагменты неорнаментированного красноглиняного сосуда.
В центральной части, на глубине 1,2 м, проявились контуры могильной ямы (2,5 × 1,2 м) подпрямоугольной формы, ориентированной длинной стороной по линии ССЗ— ЮЮВ. В южной части могильной ямы на глубине 2,6 м расчищено скопление человеческих костей (0,6 × 0,6 м), состоящее из позвонков, трубчатых костей и рёбер. С западной стороны могильной ямы расположена катакомба, вытянутая длинной стороной по линии север—юг (2,3 × 1,3 × 1 м). В устье подбоя найдены бронзовые заклёпки (рис. 3: 4 ) и округлая бусина светлоголубого цвета, изготовленная из пасты. В северной части катакомбы обнаружено скопление человеческих костей, принадлежавших мужчине 40—45 лет с ослабленными признаками европеоидного типа (рис. 2: 5 ; 3: 2 ).
Курган № 4 . Насыпь уплощённо-полусферической формы (диаметр — 10 м, высота — 35 м). На глубине 1 м от вершины насыпи в центре кургана было найдено пятно могильной ямы (2,1 × 1,1 м), ориентированное по линии северо-восток—юго-запад. На глубине 2,2 м обнаружен
№ 18. 2024
скелет лошади в анатомическом порядке, уложенный головой на юго-запад (рис. 2: 6 ). Позднее, в ходе расчистки скелета, под ним был обнаружен ещё один скелет лошади. Здесь же найдены элементы посткраниального скелета овцы. Вдоль северо-западной стороны могила углубляется и переходит в подбой размерами 2 × 1,25 м на глубине 2,6 м. Погребённый уложен на спину головой на северо-восток. Некоторые кости отсутствуют и смещены, в т. ч. череп (рис. 2: 7 ). Скелет принадлежал мужчине 35—45 лет. Антропологический тип — монголоидный.
Возле ног погребённого, с левой стороны, обнаружено железное стремя арочной формы с петлёй и невыделенной шейкой для крепления стременных ремней. Рядом найдены фрагменты плохо сохранившихся железных однокольчатых удил с одним кольцом для закрепления псалия. Здесь же обнаружено 10 железных наконечников — семь массивных трёхгранных и три трёхлопастных. Два трёхлопастных наконечника имеют удлинённо-треугольную форму, третий — лавровидную. Длина пера — 5,5—7 см, ширина — 2—2,9 см, длина черешка — 4—5,2 см (рис. 5: 1—3 ). Трёхгранные наконечники ромбической формы, сохранность плохая. Длина пера — 4—5 см, ширина — 1,7—2,2 см, длина черешка — 2—4,8 см. Также найден сильно коррозированный железный нож (длина лезвия — 8,5 см, ширина — 2 см, длина черешка — 4 см, толщина — 0,6 см (рис. 5: 4 ).
Курган № 17 . Насыпь была разрушена при земляных работах по подготовке строительства автомобильной дороги (диаметр — около 9,1 м, высота — 0,3 м). В могильной яме (2,2 × 1,9 м) на глубине 1,8 м с южной стороны обнаружен скелет лошади, уложенной на животе с подогнутыми ногами; передняя часть туловища ориентирована на юго-восток. Голова круто повернута вправо — на северо-запад и упирается мордой вниз. Справа от неё находится голова второй лошади, лицевой частью на северо-запад (рис. 2: 8 ). Подбой находился с северовосточной стороны (2 × 1,9 м, глубина 1,6 м) и ориентирован по линии северо-восток—юго-запад. Здесь был найден нож (длина лезвия — 5,5 см, ширина — 0,5 см, длина сохранившейся части черешка — 2 см) (рис. 5: 5 ). Перекрытие было разрушено грабительскими лазами. В подбое находились разбросанные кости человека (рис. 2: 9 ; 3: 3 ). Скелет принадлежал мужчине 35—45 лет. Антропологический тип — европеоидный.
Результаты антропологического анализа
Краниологическая характеристика. Мужская выборка черепов в сумме характеризуется средним продольным, большим поперечным и малым высотным диаметрами черепной коробки. По черепному указателю она относится к категории брахикранных (рис. 6—7). Лоб широкий по наименьшей и очень широкий по наибольшей ширине. Лицевой отдел высокий, широкий, по верхнему лицевому указателю мезен, ортогнатный. Орбиты широкие и высокие, мезоконхные. Нос широкий и очень высокий, лепторинный по указателю. Горизонтальный профиль слабый на верхнем уровне и умеренный на нижнем. Клыковая ямка неглубокая. Вместе с тем, эта выборка неоднородна. Три черепа (курган № 2, захоронение № 2; курган № 3; курган № 17), в целом, имеют европеоидный набор черт, различаясь, в первую очередь, по степени массивности. Четвёртый череп (курган № 4) определённо монголоидный.
Женская часть серии состоит из двух черепов хорошей сохранности. Они морфологически различаются (рис. 8). Один из них (курган № 1) характеризуется крупной, невысокой мозговой коробкой, широким и высоким, уплощённым лицевым отделом, высокими орбитами, слабо выраженной клыковой ямкой. По совокупности признаков, несмотря на сравнительно сильно выступающий в профиль нос, он монголоидный. Другой череп (курган № 2, могила № 3) гипербрахикранный, с высоким мозговым сводом, как и первый, имеет уплощённый по горизонтали лицевой отдел и также небольшие симотические величины. Его скуловая ширина и верхняя высота лица меньше, орбиты ниже, включая орбитный указатель, клыковая ямка глубже. Этот череп, учитывая дополнительно небольшое выступание носа сочетает в себе монголоидные и европеоидные признаки.
В целом, женские черепа практически дублируют представление о неоднородности, которая прослеживается на мужской выборке. Также, с учётом некоторой мозаичности черт,
№ 18. 2024
Раннетюркские погребения памятника Самсы: погребальный обряд и палеоантропологический анализ (Шу-Илейское междуречье)
можно говорить, что при сохранении на некоторых из них признаков типичных европеоидов или монголоидов, на других фиксируются элементы метисационного происхождения.
С целью оценки антропологических особенностей мужских черепов из могильника Самсы в системе синхронных находок тюркского периода был предпринят анализ методом главных компонент. Для сравнения были привлечены опубликованные индивидуальные данные тюрков Жетысу, Согда, Тохаристана, а также материалы из Северного Казахстана3 и Кыргызстана (Исмагулов 1968 (в наст. статье см. рис. 9: 5—10 ); 1970: 156—165 (рис. 9: 11—14 ); Гинзбург 1953: 157—167 (рис. 9: 40—45 ); Кияткина 1992: 119—134 (рис. 9: 46—51 ); Миклашевская 1959: 324—331 (рис. 9: 15—39 )). Анализ проводился по 14-ти признакам, по результатам которого, информативными оказались I и II главные компоненты (далее — ГК), отражающие 26,4% и 14,4% общей изменчивости (табл. 3). По первой ГК большие нагрузки испытывают следующие признаки: поперечный диаметр, верхняя высота лица, скуловой диаметр, высота орбиты и носа, симотическая высота и зигомаксилярный угол. В ГК-2 наибольшая изменчивость наблюдается по наименьшей ширине лба и назомалярному углу. Результаты анализа представлены в графическом пространстве (рис. 9). Практически равное распределение черепов по разным секторам, возможно, свидетельствует о высокой степени полиморфии данных групп. Ранее исследователями неоднократно отмечалась неоднородность тюркских серий, за исключением черепов из Забайкалья, где Г.Ф. Дебец определил, что они все типично монголоидные без следов европеоидной примеси (Дебец 1948: 199). В целом, черепа из могильника Самсы морфологически тяготеют к другим тюркским выборкам. Лишь один краниум из кургана № 4, который в своей основе имеет ярко выраженные монголоидные признаки, расположен на графике обособленно, рядом с находками тюркского времени из Кетмень-Тюбе. Они характеризуются тенденцией к увеличению поперечного и скулового диаметров и ослаблению горизонтальной профилировки на нижнем уровне. Данный краниологический комплекс также имеет высокое лицо, орбиты и низкое переносье. Обособленность черепов из долины Кетмень-Тюбе от основных групп тюркских кочевников отмечалась Т.П. Кияткиной при исследовании материалов из Тохаристана на примере могильника Байтудашт. Автором подчёркнуто, что кетменьтюбинцы наряду с тюрками Забайкалья представляют достаточно изолированную группу, которая характеризуется широко- и высоколицым брахикранным монголоидным типом (Кияткина 1992: 130). Остальные европеоидные или ослабленно европеоидные черепа находят аналогии среди материалов как с территории современного Кыргызстана, так и среди жителей Согда и Тохаристана.
Остеологическая конституция. В мужской выборке длина плечевых, локтевых и лучевых костей средняя. По указателю сечения кости плеча характеризуются эврибрахией. Ключицы имеют большую длину. Продольные параметры бедренных и большеберцовых костей средние или выше средних значений. Диафизы бедренных костей несколько уплощены, большеберцовых — расширены. Практически все длинные кости характеризуются средней массивностью. Длина тела, высчитанная по размерам правых бедренных костей по методу К. Пирсона и А. Ли составила в среднем 166,9 см, по С. Дюпертюи и Д. Хэддену 173,4 см. Индексы пропорций свидетельствуют о скорее средних соотношениях длин костей конечностей. Элементы рельефа в местах прикрепления мышц развиты средне. Примечательно, что при общей мезо- или брахиморфии сложения посткраниумов, своими повышенными продольными размерами конечностей выделяется индивид с ярко выраженными монголоидными призанаками из кургана № 4. В целом, мужские скелеты по комплексу черт относятся к «степному» морфологическому типу, характеризуемому средними или повышенными длинами костей конечностей и
№ 18. 2024
сбалансированными пропорциями (Медникова 1998: 36—37). Женские посткраниальные скелеты более грацильного сложения.
Особенности: На некоторых исследованных черепах фисируются свидетельства патологий и травматический повреждений (рис. 10). Например, на носовых костях индивидуума из погребения № 2 кургана № 2 наблюдаются следы перелома, зажившего задолго до смерти. На черепе мужчины из кургана № 4, на левой теменной кости, ближе к венечному шву зафиксирована доброкачественная опухоль — остеома, диаметром 6 мм. На краниуме погребённого в кургане № 17 сохранился метопический шов. Также стоит отметить, что на черепах фиксируется наличие искусственной непреднамеренной «бешиковой» деформации. В частности, на черепах наблюдаются следы асимметричного (правосторонее) затылочного (курган № 2, могила № 2; курган № 3) и затылочно-теменного (курган № 2, могила № 3) уплощения. Подобные морфологические изменения форм мозговых отделов объясняются результатом длительного пребывания человека на спине в младенческом возрасте или же особенностями конструкции колыбели.
Анализ материалов . Примечательно разнообразие в устройстве погребальных конструкций на одном памятнике в рамках единой культурно-хронологической позиции. В курганах № 1 и 3 захоронения размещались в катакомбах. Кони, вероятно, укладывались во входную могильную яму. Важным моментом является обнаружение в кургане № 1 женского захоронения с конём. Её сохранившийся после грабителей погребальный инвентарь состоял из серебряного кольца, обломка зернотёрки и бронзовой заклепки. Кроме скелета коня, здесь обнаружены элементы скелета собаки (Шагирбаев и др. 2024: 261). Находки зернотёрок в могильных ямах имеют древнюю традицию. В долине р. Иле фрагменты зернотёрок впервые были обнаружены в кургане № 14 могильника № 29, датирующимся позднесакским периодом (IV—II вв. до н.э.) (Кушаев 1956: 209—210). Устройство и расположение входных могильных ям отличаются. Если в кургане № 1 входная могильная яма направлена в катакомбу под углом 90º, то в кургане № 3 могильная яма расположена параллельно катакомбе.
В курганах № 4 и 17 индивидуумы находились в подбоях, кони во входной могильной яме. Причём в первом случае кони уложены друг на друга, а во втором — возле одной лошади положили голову второй. Обращает внимание наличие в кургане № 4 погребённого с ярко выраженными монголоидными чертами, а в кургане № 17 индивидуума европеоидного антропологического типа. В кургане № 4 найденное железное стремя арочной формы с петлёй и невыделенной шейкой имеет полную аналогию с находкой из могильника Бел-Саз II (Табалдиев 1996: 210, рис. 23: 4—5 ). Однокольчатые удила были широко распространены и бытовали на протяжении всей 2-й пол. I тыс. н.э. (Кубарев 2005: 121). Трёхлопастные наконечники получили у древних тюрков в VI—X вв. наибольшее распространение. Они предназначались для стрельбы по легковооружённому противнику (Худяков 1986: 149). Трёхгранные наконечники применялись для стрельбы в противника в пластинчатой броне. В Центральной Азии они бытуют на протяжении II в. до н.э. — XIV в. н.э. (Горбунов 2006: 39).
Погребальный обряд двух захоронений кургана № 2 в грунтовых ямах с подбоем имеет явно выраженные мусульманские признаки, которым соответствуют ориентировка головой на северо-запад, вытянутое положение на спине, уложенные вдоль тела конечности с положением кисти левой руки на тазе. Скелеты выглядят компактно, что может являться результатом облачения в саван. Тем интереснее наличие погребального инвентаря в первом захоронении, где был погребен индивидуум возрастом 18—22 лет (пол не определяется). Состав находок (бронзовое зеркало и перстень, кулон из белого полупрозрачного агата) явно указывает на то, что погребение принадлежало молодой знатной женщине. Причём во втором захоронении находился мужчина 35—45 лет европеоидного облика без какого-либо сопроводительного инвентаря. Погребения по мусульманскому обычаю с личными украшениями в Шу-Илейском междуречье известны на могильнике археологического комплекса Бутакты-1 (Горячев, Мотов 2018: 121).
Раннетюркские погребения памятника Самсы: погребальный обряд № 18. 2024 и палеоантропологический анализ (Шу-Илейское междуречье)
Среди находок первого захоронения выделяется бронзовое зеркало, которое аналогично зеркалу из кургана могильника Бел-Саз II (VIII—IX вв.), где оно также находилось в изголовье погребённой женщины с левой стороны (Табалдиев 1996: 58, 212, рис. 24). Зеркало украшено такими же кружками с точкой по центру, хотя нанесены они там бессистемно и петелька выполнена в виде изображения косули. Зеркала подобной формы и орнаментом также известны по материалам Пенджикента VIII в. (Распопова 1980: 120, рис. 79: 6—7 ). Похожие зеркала были распространены в V—VIII вв. на обширной территории: в Поволжье, уральских степях, на Кавказе, в Северном Причерноморье и Венгрии (Литвинский 1978: 91). В погребении 38 на памятнике Чояндон в Корее (2-я пол. I в. до н.э.) обнаружено аналогичное китайское зеркало округлой формы с концентрическими окружностями и с петелькой в центре (Нестеркина и др. 2022: 12, рис. 1: 1 ). Гравированный орнамент начал формироваться на китайских зеркалах уже в III—II вв. до н.э. и распространился в Средней Азии в I—III вв. и отсюда далее на запад (Литвинский 1978: 93). Предположительно, зеркала с петелькой возникли в Средней Азии под влиянием китайских орнаментальных мотивов в I—III вв. Но нельзя исключать и влияние местной традиции украшения зеркал арками-дугами (Баринова 2012: 59). Перстни с гнездом для вставки имеют широкие аналогии из тюркских погребений Шуской долины и территории Средней Азии в целом, в особенности они многочисленны в Пенджикенте в слоях VII—VIII вв. (Распопова 1980: 116). С VII в. начинает увеличиваться сильное влияние согдийцев на Жетысу. Многочисленные переселения согдийцев продолжаются и во время арабского нашествия в 1-й пол. VШ в. (Бернштам 1940: 41). Это привело к тесному этнокультурному взаимодействию тюрков и согдийцев, что выражалось в сходстве в архитектуре и строительстве, керамическом ремесле, письме, искусстве настенной живописи и художественной резьбе по дереву, в религиозных воззрениях (Байпаков и др. 2013: 18).
Результаты радиоуглеродного анализа С14 костей лошади и собаки с катакомбы кургана № 1 показали, что погребение датируется в пределах конца VIII—X в. (табл. 4) (Шагирбаев и др. 2024: 257, табл. 1). Остальные курганы по полученным данным и характеру погребального обряда датируются в рамках VIII—X вв. В это время на территории Жетысу доминировали карлуки, которые в 766 г. заняли Суяб в долине р. Шу и перенесли сюда свою ставку. Главная масса карлуков переселилась из Алтая, откуда в Средневековье пошёл обычай погребения с конём. Его возникновение исходит ещё к скифскому периоду (VI—III вв. до н.э.) (Кубарев 2005: 19). Результаты археозоологических исследований шести лошадей (из курганов № 1, 3, 4, 17) показали, что пять из шести особей являлись жеребцами, по шестому скелету пол не определён. Лошади были ниже среднего и среднего роста, принадлежали к группе разных типов тонконогости (Шагирбаев и др. 2024: 266). Эти данные указывают на то, что, скорее всего, это были ездовые лошади погребённых. Конь служил жертвенным животным в поминальном обряде (Кубарев 2005: 13) и выполнял роль перевозчика умершего и пищи (Нестеров 1990: 53).
Антропологическая серия из тюркских погребений могильника Самсы является полиморфной как по краниологическим, так и по остеометрическим характеристикам. Смешанность антропологических типов на материалах тюркского периода не раз подчёркивалась другими исследователями. Как отмечал О. Исмагулов, «антропологический состав населения Казахстана никогда не был столь разнообразен, как в тюркское время» (Исмагулов 1970: 65). В.В. Комаров и Е.П. Китов, исследовав черепа кимако-кипчакского времени Среднего Прииртышья, отметили, что данный обобщающий вывод применим и к отдельным регионам Казахстана (Комаров, Китов 2016: 109). Похожая ситуация наблюдается как на близлежащих материалах из городищ Красная речка и Ак-Бешим в Шуской долине на территории совр. Кыргызстана, так и на территории Тохаристана и Согда (Тур 1989: 126; Миклашевская 1959: 304—309).
Интересны морфологические связи материалов из Самсы с некоторыми черепами жителей Согда и Тохаристана. В физическом облике населения обоих регионов исследователями
№ 18. 2024
выделены брахикранные и долихокранные антропологические типы с некоторыми различиями в лицевом отделе. На материалах Жетысу наряду с ярко выраженными брахикранными встречаются долихо- и мезокранные черепа. Т.П. Кияткина с оговоркой относит погребённых в катакомбах и подбоях в могильнике Байтудашт к тохаристанским тюркам-карлукам. По её мнению, данные группы связаны с горными долинами Тянь-Шаня и Алая и на своём пути в Тохаристан смешивались с племенами иного расового типа, однако часть из них сохранила свой исходный монголоидный компонент (Кияткина 1992: 133). Материалы из погребений наусов Пенджикента демонстрируют смешанность антропологических типов внутри европеоидной расы. В.В. Гинзбургом сделано предположение, что в формировании населения одного из крупнейших городов Согда принимали участие не только местное население, но и группы отдалённых районов Средней Азии (Гинзбург 1953: 167). Примечательно, что на данных материалах не встречаются следы затылочного уплощения, связанные с непреднамеренной колыбельной деформацией, имеющейся на индивидуумах из Самсы. Напротив, черепа имеют круглый и выступающий затылок. Антропологическая неоднородность тюрков на обширном пространстве от Забайкалья до Тохаристана связана с многокомпонентностью их этнического состава.
Выводы . В результате изучения материалов из тюркских курганов памятника Самсы выяснилось, что погребальные конструкции на едином хронологическом этапе имели различные формы и элементы. Антропологические типы погребённых представлены европеоидными, определённо монголоидными и смешанными черепами. Особенности скелетной конституции близки к «степному» морфологическому варианту сложения. На примере кургана № 1 выяснилось, что женщин также хоронили с конём, что указывает на их не последнюю роль в обществе. Захоронения в кургане № 2 совершались по мусульманскому обычаю, здесь интерес представляет захоронение № 1, где погребённую сопровождали бронзовое зеркало и перстень, а также кулон из агата. Эти статусные предметы указывают на принадлежность к знати. По результатам радиоуглеродного анализа, находкам и характеру погребального обряда курганы датируются VIII—X вв. В этот период в Жетысу главенствуют карлуки, однако различия в погребальном обряде и физическом облике погребённых свидетельствуют об активных процессах смешивания монголоидного и европеоидного компонентов местных и пришлых этнических групп. Полученные данные свидетельствуют о существовании тесных связей с населением Тянь-Шаня, Согда и Тохаристана. Разнотипность антропологического состава тюрков связана с их смешиванием с представителями иных расовых типов на пути своего распространения, что подтверждается в работах других исследователей.
Список литературы Раннетюркские погребения памятника Самсы: погребальный обряд и палеоантропологический анализ (Шу-Илейское междуречье)
- Айтқұл Х.А. 2016. ҚР Мемлекеттік орталық музейінің 2014 жылы Алматы облысы Жамбыл ауданына қарасты Ақтерек ауылдық округінде орналасқан археологиялық ескерткіштерге жүргізілген қазба жұмыстарының нәтижелері. В: Омаров Ғ.Қ. (жауапты ред.). VІІІ Оразбаев оқулары. Алматы: Қазақ университеті, 137—146.
- Айтқұл Х.А. 2019. Қазақстан Республикасы Мемлекеттік орталық музейінің 2018 жылы Ақтерек қорымында жүргізген археологиялық қазба жұмыстарының нәтижелері. В: Омаров Ғ.Қ. (жауапты ред.). ХІ Оразбаев оқулары. Алматы: Қазақ университеті, 181—192.
- Айтқұл и др. 2018: Айтқұл Х.А., Мякишева О.А., Торежанова Н.Ж., Рахметова А., Айдарханова Е.Е. 2018. Қазақстан Республикасы Мемлекеттік орталық музейінің 2017 ж. Ақтерек қорымында жүргізілген далалық қазба жұмыстарының нәтижелері. В: Омаров Ғ.Қ. (жауапты ред.). ІХ Оразбаев оқулары. Алматы: Қазақ университеті, 137—142.
- Акишев К.А. 1956. Отчёт о работе Илийской археологической экспедиции, 1954 г. ТИИАЭ I, 5—31.
- Алексеев В.П., Дебец Г.Ф. 1964. Краниометрия. Методика антропологических исследований. Москва: Наука.
- Алексеев В.П. 1966. Остеометрия. Методика антропологических исследований. Москва: Наука.
- Байпаков и др. 2013: Байпаков К.М., Капекова Г.А., Воякин Д.А., Марьяшев А.Н. 2013. Сокровища древнего и средневекового Тараза и Жамбылской области. Алматы: Археологическая экспертиза.
- Баринова Е.Б. 2012. Зеркала как источник по истории контактов народов Средней Азии с Китаем в древности и средневековье. Вестник Российского университета дружбы народов. Сер.: Всеобщая история. № 4, 57—92.
- Бернштам А.Н. 1940. Согдийская колонизация Семиречья. КСИА IV, 34—43.
- Бужилова А.П. 2005. Homo sapiens: История болезни. Москва: ИА РАН.
- Гинзбург В.В. 1953. Материалы к краниологии Согда. Москва; Ленинград: АН СССР, 157—167 (МАИ 37).
- Горбунов В.В. Военное дело населения Алтая в III—XIV вв. Ч. II. Наступательное вооружение (оружие). Барнаул: Алтайский университет, 2006.
- Горячев А.А., Мотов Ю.А. 2018. Археологический комплекс Бутакты-І. Алматы: KazBookTrade.
- Дебец Г.Ф. 1948. Палеоантропология СССР. Москва: АН СССР (ТИЭ. Новая серия. Т. IV).
- Исмагулов О. 1968. Материалы по антропологии тюрков Семиречья. В: Кадырбаев М.К. (отв. ред.). Новое в археологии Казахстана. Алма-Ата: Наука, 112—127.
- Исмагулов О. 1969. Антропологические данные о тюрках Прииртышья. В: Акишев К.А. (отв. ред.). Культура древних скотоводов и земледельцев Казахстана. Алма-Ата: Наука, 80—90.
- Исмагулов О. 1970. Население Казахстана от эпохи бронзы до современности (палеоантропологическое исследование). Алма-Ата: Наука.
- Кияткина Т.П. 1992. О тюрках в древнем Тохаристане (материалы из могильника Байтудашт). В: Гохман И.И., Юсупов Р.М. (отв. ред.). Материалы к антропологии уральской расы. Уфа: БНЦ УрО РАН, 119—134.
- Комаров С.Г., Китов Е.П. 2016. Новые краниологические данные к вопросу об антропологическом составе тюркского населения степной полосы среднего Прииртышья X—XII вв. Вестник археологии, антропологии и этнографии 2 (33), 97—111.
- Кубарев Г.В. 2005. Культура древних тюрок Алтая (по материалам погребальных памятников). Новосибирск: ИАЭт СО РАН.
- Курманкулов Ж.К. 1980. 1956. Погребение воина раннетюркского времени. В: Акишев К.А. (отв. ред.). Археологические исследования древнего и средневекового Казахстана. Алма-Ата: Наука КазССР, 191—197.
- Кушаев Г.А. 1956. Два типа курганных погребений правобережья реки Или (по материалам Илийской экспедиции 1954 года). ТИИАЭ АН КазССР. Т. І. Археология, 207—220.
- Литвинский Б.А. 1978. Орудия труда и утварь из могильников Западной Ферганы. Москва: Наука.
- Медникова М.Б. 1998. Остеометрическая методика в биоархеологических реконструкциях. В: Година Е.З. (отв. ред.). Историческая экология человека. Методика биологических исследований. Москва: Старый сад, С. 33—86.
- Миклашевская Н.Н. 1959. Результаты палеоантропологических исследований в Киргизии. Труды Киргизской археолого-этнографической экспедиции. Т. II. Москва: АН СССР, 295—331.
- НА ИА КН МНВО РК. Д. 2110. Самашев З. 1986. Отчет о работе отряда Семиреченской археологической экспедиции в 1986 г. на могильнике Сулу Коян.
- Нестеркина и др. 2022: Нестеркина А.Л., Соловьева Е.А., Кудинова М.А. 2022. Китайские зеркала с надписями из погребальных комплексов раннего железного века Кореи и Японии. Вестник НГУ. Сер.: История, филология. Т. 21. № 10. Востоковедение, 9—21.
- Нестеров С.П. 1990. Конь в культах тюркоязычных племен Центральной Азии в эпоху средневековья. Новосибирск: Наука.
- Нурмуханбетов и др. 2012: Нурмуханбетов Б.Н., Тулегенов Т.Ж., Рахметов А. 2012. Аварийно- спасательная деятельность заповедника-музея Иссык (итоги сезона 2011 г.). В: Зайберт В.Ф. (отв. ред.). Маргулановские чтения—2012. Астана: ФИА, 220—225.
- Пежемский Д.В. 2011. Изменчивость продольных размеров трубчатых костей человека и возможности реконструкции телосложения: дис. … канд. биол. наук. Москва: МГУ.
- Распопова В.И. 1980. Металлические изделия раннесредневекового Согда. Ленинград: Наука.
- Рогожинский А.Е. 2020. Из истории археологического изучения Чу-Илийского междуречья. В: Воякин Д.А., Горячев А.А. (отв. ред.). История и археология Семиречья. Вып. 7. Алматы: ИА КН МОН РК, 56—76.
- Рохлин Д.Г. 1965. Болезни древних людей. Москва; Ленинград: Наука.
- Садуакасулы С., Железняков Б.А. 2016. История изучения историко-культурного наследия Жамбылского района. В: Садуакасулы С. (гл. ред.); Байтанаев Б.А. (отв. ред.). Древности Жетысу. Памятники археологии Жамбылского района. Алматы: Заповедник-музей «Танбалы», 3—18.
- Табалдиев К.Ш. 1996. Курганы средневековых кочевников Тянь-Шаня. Бишкек: Айбек.
- Тур С.С. 1989. Население Краснореченского городища по данным палеоантропологии. В: Лившиц В.А., Плоских В.М., Горячева В.Д. (ред.). Красная Речка и Бурана (Материалы и исследования Киргизской археологической экспедиции). Фрунзе: Илим, 120—129.
- Хасенова Б.М. 2023. К истории одной антропологической коллекции эпохи средневековья из Костанайского Притоболья. В: Онгарулы А (гл. ред.), Т.Б. Мамиров (отв. ред.). Маргулановские чтения—2023. Т. 1. Алматы: ИА КН МНВО РК, 374—378.
- Хохлов А.А., Григорьев А.П. 2020. К методике оценки метрических данных по основным абсолютным признакам и указателям скелета человека (по антропологическим материалам некрополей г. Самары XVIII—XIX вв.). Вестник Московского университета. Сер. 23. Антропология. № 3, 68—76.
- Худяков Ю.С. 1986. Вооружение средневековых кочевников Южной Сибири и Центральной Азии. Новосибирск: Наука.
- Шагирбаев и др. 2024: Шагирбаев М.С., Буранбаев Р.Н., Шербаев Р.К. 2024. Лошади из раннетюркских погребений: по материалам памятника Самсы (Шу-Илейское междуречье). Археология Казахстана (Қазақстан археологиясы) 2 (24), 252—269.
- Шер Я.А. 1961. Погребение с конём в Чуйской долине. СА 1, 280—282.
- Tulegenov et al. 2021: Tulegenov T.Z., Besetayev B.B., Khassenova B.M. 2021. New data on the culture of the ancient Turks of Zhetysu. Kazakstan arheologiasy (Kazakhstan Archeology) 4 (14), 121—133.