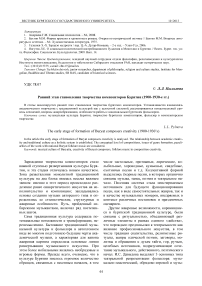Ранний этап становления творчества композиторов Бурятии (1900-1930-е гг.)
Автор: Пыльнева Лада Леонидовна
Журнал: Вестник Бурятского государственного университета. Философия @vestnik-bsu
Рубрика: Бурятоведение
Статья в выпуске: 10, 2013 года.
Бесплатный доступ
В статье анализируется ранний этап становления творчества бурятских композиторов. Устанавливается взаимосвязь академического творчества с традиционной культурой как с целостной системой, рассматриваются концептуальный уровень сочинений, вопросы жанрообразования, особенности работы с национальным бурятским фольклором.
Музыкальная культура бурятии, творчество бурятских композиторов, фольклор в композиторском творчестве
Короткий адрес: https://sciup.org/148181570
IDR: 148181570 | УДК: 78.07
Текст научной статьи Ранний этап становления творчества композиторов Бурятии (1900-1930-е гг.)
Зарождение творчества композиторов стало важной ступенью развертывания культуры Бурятии, и эта стадия отличалась новым качеством. Зона разветвления монолитной традиционной культуры на два блока явилась весьма важным звеном: именно в этот период происходило разделение ранее синкретического искусства на исполнительство и композицию; закладывались основы создания музыки авторского типа и определялись ее стилистические, структурные и жанровые особенности. Путь, пройденный сибирскими музыкантами, включал ряд постепенных шагов.
Сама традиционная культура содержала потенциальные возможности к трансформации, переосмыслению. Бытование традиционной музыкальной культуры и фольклора в автохтонном виде во многом подготовило будущие черты академической музыки, а характерная для канона жанровая картина определила основные линии развертывания музыкального искусства. При этом более мобильными являлись необрядовые и игровые формы. Прежде всего, очевидно, что в культуре Бурятии имелось огромное количество образцов, связанных с песенным началом, в том числе застольные, протяжные, лирические, колыбельные, хороводные, кумысные, свадебные, охотничьи песни и т.д. Коллективной формой выделялись ёхорные песни, в которых органично связаны музыка, танец, поэзия и театральное начало. Песенная система стала неисчерпаемым источником для будущего функционирования песен, как в виде самостоятельных жанров, так и в качестве музыкальных номеров, внедряемых в контекст различных постановок и праздничных сценариев.
Другие жанровые возможности, коренившиеся в бурятской традиционной культуре, были связаны с ритуальностью, объединяющей различные элементы в рамках единого «действа», что порождало предпосылки к театральности как явлению профессионального искусства, в том числе традиция сказительства, религиозные ритуалы, жанры одической поэзии, заговоры, молитвы и обращения к духам тайги, гор, ручьев, целебных источников, подразумевающие сочетание музыкального, действенного, поэтического начал. И.С. Давыдова выделяет 3 основных типа театральной репрезентации фольклора: музыкально-пластический, обрядово-игровой и музы- кально-эпический, усматривает элементы театральности в обрядах, народных представлениях, сценках и диалогах в исполнении «эпических и лирических произведений фольклора» [Давыдова, с. 16]. В частности, театральные элементы коренились в буддийских мистериях «Цам», праздновании «Майдар», важным источником стал улигер (бур. үльгэр), который помимо песенно-разговорного начала включает элементы игры и театрализации. Другим импульсом послужили популярные изображения бытовых сцен и разнообразные сюжетные танцы и игры, напоминающие театрализованные представления: «Хурайн наадан» («Тетеревиный танец»), «Һойри наадан» («Глухариная пляска»), «Шонын наадан» («Волчья игра»), «Арha элдэхэ» («Выделка кожи»), «Зooхэйн наадан» («Танец саламата»), «Шүбгэ бэдэрэлгэ» («Розыск шила») и т.п. На развитие театральности повлияли и народные комедии, например, «Кража белого быка», которая являлась образцом фольклорного театра.
Первой ступенью к новому прочтению фольклора стал его прямой перенос в систему академической музыки, т.е. новые формы его бытования. Традиционные образцы экспонировались в рамках бытового музицирования, концертного исполнительства и на театральных сценах, фактически в новых системных условиях. Фольклорные произведения были представлены в первозданном виде и сохраняли основные элементы музыкального языка, характерные для пребывания в привычной системе. В то же время они оказывались дистанцированными от своей сакральной, ритуальной, знаковой функции. Для исполнения в формате академического искусства выдвинулись песни и жанры, связанные с прикладным значением музыки, т.е. с сопровождением обряда или танца. В них музыкальный пласт мог быть представлен вокальным (сольным и хоровым) и инструментальным музицированием (в основном на народных инструментах).
Например, в 1909 г. в рамках «этнографического вечера» шаман Долба Билатиков исполнял обряд шаманского камлания, тогда же был представлен ёхор; в 1911-1914 гг. на любительских мероприятиях демонстрировались национальные бурятские обряды и песни (например, «Богат очаг наш», «Будем веселиться до восхода солнца»), танцы «hойри-наадан», гүүгэл, ритуал бурятской свадьбы, женские праздники «түргэ», (бур. түрхэм – отцовский очаг), ламаистское служение (хурал – буддийская религиозная служба, проводимая собранием священнослужителей). В качестве инструментального сопровождения песен использовались преимущественно хуур и лимба, а в ламаистских действах – инст- рументы дацанского оркестра. В проводимых мероприятиях равное значение имели желание и потребность сибиряков вывести искусство за пределы традиционного функционирования и показать как определенную художественноэстетическую ценность, вызвать интерес зрителей и слушателей к малоизвестным (для «европейцев»), либо, наоборот, к популярным (для представителей коренных культур) формам музыкального творчества.
Следующим шагом стало исполнение традиционной музыки в контексте литературных театральных произведений. Ранними пьесами и постановками, которые могут быть приравнены к театральным, стали « Үхэл » («Смерть») Д.Д. Абашеева, « Архин зэмэ » («Виновато вино»), « Хубхай-шоно » («Голодный волк») И.В. Барлу-кова, «Картежники» Ч.Л. Базарона, « Хоёр дэл-хэй » («Два мира») И.Г. Салтыкова. Поскольку новые произведения во многом аккумулировали черты традиционного искусства, в основу первых «драм» и сценок попадали прямые внедрения отдельных персонажей или обрядов (например, в пьесе «Виновато вино» изображался пьяница, подобный фольклорному персонажу Архи-нши-Мангилаю (букв. Пьяный лоб), а в драме «Смерть» использовались элементы шаманских обрядов).
Отсутствие письменного текста часто усложняло анализ, однако известно, что музыкальная составляющая в названных «драмах» представляла иллюстративные традиционные образцы и речи не шло о музыкально-драматургическом целом. В сопровождении сценических опытов мог использоваться фольклорный инструментарий. Успех ранних сочинений был обусловлен актуальностью, а недолговечность их бытования объяснялась не очень высокими художественными результатами, а порой – тем, что появившиеся пьесы существовали в сознании зрителей и исполнителей на тех же основаниях, что и фольклорные сценки, т.е. как единовременно исполненный вариант, производный от имеющего более широкое хождение инварианта. (Это, кстати, отчасти объясняет отсутствие зафиксированных музыкальных, а порой и вербальных текстов). Учитывая тесную связь с традиционным искусством, исполнителями репертуара в любительских театрах были носители национальных культур, которые играли в пьесах и инсценировках, свободно и легко включая в них фрагменты обрядов и песен. Среди более поздних опусов важным сочинением явилась драма «Баир» Г.Ц. Цыдынжапова и А.И. Шадаева, к которой композитор П.М. Берлинский в 1938-1939 гг. писал музыкальное оформление, а также пьесы «Из искры пламя» Х.Н. Намсараева, «Один из многих» Н.Г. Балдано, «Новый путь» А.И. Шадаева и М.В. Хаптагаева.
Несовершенство первых образцов профессионального творчества характерно для любой национальной литературы, драматургии, а также для музыкального искусства, и в этом ранние опыты творчества сибирских художников достаточно типичны. Однако следует напомнить важную особенность, связанную с этим периодом развития: преимущественную опору на традиционные, почвенные легенды или актуальные современные сюжеты, а также на близость к своему быту и национальным источникам, на отсутствие подражаний другим культурам в выборе тем и персонажей.
Очередной стадией можно считать новые виды исполнительства, в том числе исполнение инокультурных образцов академической музыки. Конечно, изменения проникали в картину бытования всех музыкальных жанров, но в развертывании театрального и концертного дела наблюдались отличия. Если театрализованные представления являлись достаточно органичными для культуры бурят, то в сферу инструментального музицирования, помимо исполнительства на национальных инструментах, постепенно внедрялось концертирование и на европейских академических инстументах. В частности, в Верхне-удинске создавались ансамбли бурятских народных и храмовых инструментов, а также смешанные оркестры и ансамбли бурятских и русских инструментов. Среди коллективов и солистов на территории Бурят-Монголии появлялись профессионалы, которые внесли солидный вклад в формирование будущей культуры, например, с концертами выступали пианистка В.Д. Обыденная и скрипач Н.И. Никитин.
Для репертуара того времени была характерна пестрота: от исполнения академических произведений – до фольклора и опусов композиторов-мелодистов, сочинения которых мало отличались от традиционных. Как и в других регионах, серьезную просветительскую роль сыграло радиовещание, развивающееся с конца 1920-х – начала 1930-х гг.
Важным этапом в процессе становления композиторского творчества явилась письменная фиксация национального фольклора. Данный процесс был инициирован в первой трети 20-го столетия. Перевод фольклора в другую плоскость, от функционирования в устной форме – в область письменной культуры, стал направлением деятельности, которая способствовала развитию нового мышления и восприятия. Отметим, что собирательская тенденция в Сибири совпала с общероссийским развитием фольклористики.
По сути сбор фольклора в Бурятии – процесс многоканальный, как и многие другие процессы в культуре региона: результаты фольклористической деятельности в равной мере являются плодами трудов литераторов, композиторов и исследователей – представителей и сибирских культур, и отечественного академического искусства и науки. Обе «ветви» собирателей в известном смысле дополняли и оказывали помощь друг другу, как, впрочем, и исследовательские группы, возникавшие еще в XIX в. и включавшие представителей разных наций, и многие будущие творческие союзы русско-бурятских композиторов, сформировавшиеся в 1940-1950-е гг.
Огромную важность представлял тот факт, что для коренных бурят было характерно блестящее знание фольклора, носителями которого они являлись: его жанров и форм, функционирования в целостной системе, ареалов бытования различных вариантов, языков и их диалектов, а также характерных и порой достаточно сложных техник звукоизвлечения. Будучи носителями языка и культуры, представители местных народов сами часто мастерски исполняли песенный и инструментальный фольклор. В Бурятии в описываемый период работали местные и приезжие из европейской части России ученые и музыканты: Д.А. Абашеев, Д.Д. Аюшеев, К.В. Багинов, С.П. Балдаев, Н.Г. Балдано, А.А. Бальбуров, Ж.А. Батуев, Б.В. Башкуев, А.К. Богданов, П.М. Берлинский, В.Г. Галданов, Г.Г. Дадуев, Ц.Ж. Жамцарано, И.Н. Мадасон, Н.М. Мильхеев, В.И. Морошкин, Х.Н. Намсараев, Б.П. Сальмонт, Г.Д. Санжеев, Р.Ф. Тугутов, А.М. Хамгашалов, Д.Д. Хилтухин, Г.Ц. Цыдынжапов, А.И. Шадаев, Б.Б. Ямпилов. В результате был собран большой массив материалов в самых различных жанрах.
Фольклор фиксировался как в переводах, так и на языках оригинального хождения, внимание уделялось и вербальной, и музыкальной стороне. В том числе группа Б.П. Сальмонта (1926-1928) записала около 600 бурятских и монгольских мелодий, большое их количество нотировал П.М. Берлинский, Р.Ф. Тугутовым были зафиксированы бурятские легенды, 15 сказок, 20 шаманских заклинаний, 200 частушек. Б.В. Башкуевым был выпущен «Сборник бурят-монгольских песен» [Башкуев].
Несмотря на фиксацию образцов, многие из них продолжали свое хождение не только в те отдаленные годы, но существуют в настоящее время как традиционные. То есть сформировалась их бифункциональность: с одной стороны, зафиксированный вариант эпического сказания вводился в научный обиход литературоведов, музыковедов, историков, этнографов в качестве объекта исследований, становился явлением письменной культуры и литературным источником для широкого круга читателей. Функцию посредника в передаче знаний в этом случае выполняла доступная для прочтения и неизменная по содержанию книга, не требующая дополнительного передаточного механизма. С другой стороны, тот же образец продолжал свое существование и в традиционной системе во многих вариантах, исполнялся через посредника-певца и переживался каждый раз заново как действо, имеющее сакральное значение. При этом исполнители, обладавшие феноменальной памятью, не нуждались в фиксации и удерживали в голове до нескольких десятков сказаний (напомним, что самые крупные, как «Гэсэр», насчитывали до 50 000 стихов). Думается, именно собирательство оказало главное влияние на первые композиторские опыты, в которых в полной мере проявилось характерное для начального этапа развития композиторского творчества прямое заимствование материала и необработанное включение фольклора в опус, что определялось цельностью фольклорного восприятия.
Появление первых авторских музыкальных опусов стало логичным шагом вслед за записями оригинального материала и его начальными обработками. Фактически все будущие композиторы приходили к начальной ступени академического искусства, имея: 1) опыт традиционного музицирования; 2) слуховые впечатления или практические навыки, связанные с буддийским дацанским музыкальным обиходом; 3) познания в области элементарной теории музыки или композиции, принятые в российском музыкальном искусстве; 4) некоторым также было свойственно владение различными системами нотации (в том числе старинной тибетской).
Так, Д.Д. Аюшеев (1910-1971), получивший музыкальное образование в дацане, был знаком с музыкой буддийского богослужения, владел инструментами дацанского оркестра, такими как хэнгэрэк, сэн, додарм, ганлин, ухэр-бурэ, являлся мастером-исполнителем на главном инструменте - биш-хуре; другой пласт, традиционного искусства, в котором композитор был своего рода экспертом, составлял бурятский фольклор. Б.Б. Ям-пилов (1916-1989), который вырос в весьма религиозной семье (дом родителей будущего композитора был расположен неподалеку от одного из крупнейших дацанов Бурятии – Кижингин-ского), был знаком с музыкальной практикой ламаистского богослужебного культа; знание фольклора и участие в обрядах традиционного музыкального обихода также были неотъемле- мым источником его музыкального опыта. О глубоком и блестящем знании фольклора Ж.А. Батуевым (1915-1996) свидетельствовали участие и победы в сельских соревнованиях певцов и инструменталистов еще в детские годы. Г.Г. Дадуев (1914-1958) великолепно владел бурятскими народными инструментами, такими как лимба, сур, биш-хур и хур, являлся знатоком песен аларских бурят. Все названные композиторы в 1930-е гг. окончили Улан-Удэнское театрально-музыкальное училище.
Для национальных композиторов была характерна непосредственная филиация между авторскими сочинениями и их прототипами в традиционной культуре на всех уровнях музыкального языка: концептуальном, жанровом, тематическом, сюжетном, образном. Первые опусы не являли собой результатов межсистемного мышления, т.е. синтеза возможностей традиционной и академической музыкальной систем, а демонстрировали преимущественное нахождение в сфере эстетики фольклора. Поэтому в них проявлялось свойственное традиционной музыке вариантное обновление инварианта, использовались методы обработки, не разрушавшие жанровой и тематической целостности образца. То есть, подобно тому, как певец-импровизатор мог использовать определенные штампы и готовые формулы, допускавшие варьирование в своих комбинациях, так поступали и первые композиторы. Традиционная система мышления была экстраполирована на первые произведения академической письменной культуры. При этом обновление содержания, характерное для периода 1920-1930-х гг., не нарушало стилевого и жанрового единства музыкальных образцов и не было чуждым природе фольклорного мышления.
В частности, черты традиционного мышления проявляются в песне « Жаргал » («Счастье», 1934) Ж.А. Батуева. Несомненно сохранение целостности жанра: мелодическая линия вполне соответствует стилю типового напева хори-бурят – в данном случае богони-дуун . Сочинение отличается простотой ритма, опорой на ангемитонную пентатонику, традиционной структурой, устойчивыми интонационными и метроритмическими оборотами. Вербальные строки, принадлежащие перу Ц.Г. Галсанова, укладываются в закономерности, характерные для народнопоэтического стихосложения, о чем свидетельствуют и структура стиха, и тоническая система, и аллитерации. Приведем текст первого куплета:
Басагадууд, хүбүүдүүд, шамдаяы,
Барандаа хүхюутэй хүдэлэеы.
Жаргалайнгаа ехэдэ наадаяы,
Байдалайнгаа бардамда неэлдэеы.
Гармоническое обрамление связано не с привычным для классической гармонии функциональным наполнением, а с приемами звукокрасочного оформления. Аналогичные черты характерны для « Тиимэш ёhо байха » («И такое бывает»), «У таежных хребтов», «Дуулимхан сэнхир Хэжэнгэээр» («Привольная светло-голубая Ки-жинга») того же автора, а также песен Б.Б. Ям-пилова «Степь Кижинги», «Бурят-Монголия» на слова Ц.Г. Галсанова. Отметим обращение композиторов к источникам различной языковой принадлежности, что стало следствием двуязычия региона.
Картину творчества в республиках дополняли фигуры композиторов, чье музыкальное образование формировалось в контексте российской школы. Естественно, взаимосвязь с коренным фольклором в творчестве приезжих была иной, поскольку обращение к нему являлось фактором межкультурных и межстилевых взаимодействий. Для них характерен дистанцированный подход и избирательное обращение к элементам фольклора. Данный метод допускает использование кроссжанровых переходов, когда элементы одного жанра могут быть внедряемы в другой, а отдельные интонации и формулы включаться в уже устоявшуюся профессиональную систему средств музыкальной выразительности. Например, свободно трактуемые формулы бурятского и монгольского фольклора использованы в «Марше на бурят-монгольские темы», сюите на монгольские темы «Хатархадаа» , «Торжественном марше» П.М. Берлинского. Активные трансформации фольклора, его трактовку в рамках нового жанра - марша использовал и Р.М. Глиэр в «Героическом марше Бурят-Монгольской АССР» (1936).
Приезжие авторы не удерживали в своих сочинениях семантику, характерную для музыкальных тем и жанров инонациональной культуры. В их произведениях просматривались композиционные приемы и принципы, выработанные в недрах русской композиторской школы, несмотря на умелое и изобретательное использование фрагментов подлинных бурятских и монгольских напевов. О преобладании «общеевропейского стиля» в музыкальных сочинениях на бурятские темы П.М. Берлинского упоминает О.И. Куницын [Куницын, с. 16]. Чувствовалась несомненная опора на тонально-гармоническое мышление, и включены приемы имитационной полифонии. Следовательно, представители обеих ветвей композиторского искусства (национальной и общероссийской), имевшие достаточно плотные контакты между собой, на описанной стадии существенно расходились в своих творческих методах. И это вполне объяснимо.
Как известно, существует несколько уровней музыкального языка, определяющих специфику его системы: 1) уровень элементов, который наиболее мобилен и легко подвергается изменениям; 2) уровень семантики - более стабильный; 3) уровень связей между всеми элементами (системный, целостный) - наиболее консервативный. Взаимодействие культур на изучаемом этапе происходило не на уровне синтеза двух целостностей, а путем включения в каждую из систем отдельных новых элементов. То есть в сочинениях приезжих авторов их стиль был обогащен отдельными сегментами бурятского фольклора. В композиторских опытах первых национальных авторов стремление к сохранению жанра и цельности формы преобладало над включением нового, и элементы новизны заключались в нарушении частностей - в обогащении фактуры и красок гармонии, использовании новых тембровых и мелодических вариантов. Причем названные приемы были тоже производными от фольклорных, но представляли более далекий вариант. Иногда они могли дополняться инокультурными элементами, не вступающими в противоречие с целым: например, метро-ритмический рисунок типового напева вбирал формулы марша. Но од-нопорядковость и одноуровневость подобного синтеза способствовали сохранению выразительных средств как единой системы.
В контексте анализа исследуемого периода нельзя не сказать о других влияниях российской (и через ее посредство европейской) культуры на национальную бурятскую музыку. С одной стороны, развертывание музыкальной культуры Сибири в контексте общероссийской - факт бесспорный, но, с другой - наиболее полно инокультурные влияния проявились во внедрении исполнительства в тех сферах музыкального искусства, которые не имели аналогов в традиционной культуре, а являлись европейскими по происхождению (например, игра на академических инструментах). Но несомненен национальный приоритет и генетическая связь с традицией в тех случаях, когда в ней имелись прототипы для данного вида деятельности: к ним принадлежали исполнительство на фольклорных инструментах и инструментах дацанского оркестра, вокальное исполнительство, театральная игра и композиторские опыты.
В целом обозначенная стадия важна не только сама по себе. Именно здесь наметились пути профессионализации творчества как самостоятельного вида деятельности, не входящего в синкретическую триаду (носитель культуры: тво-рец=исполнитель=слушатель). Импульсы, заданные этапом, получили реализацию в дальнейшем
|
и во многом определили будущее композиторского творчества в сибирских республиках. Это возможно проследить в сохраняющейся на следующих стадиях специфике и целостности сис- |
темы национальной культуры, т.е. в единстве музыкального языка, в источниковой функции национального традиционного начала, а также в отношении к своей культуре как к идеалу. |