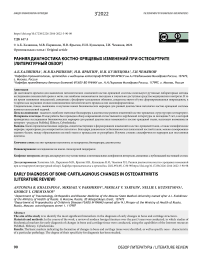Ранняя диагностика костно-хрящевых изменений при остеоартрите (литературный обзор)
Автор: Халяпина А.Б., Паршиков М.В., Ярыгин Н.В., Кузнецова Н.И., Чемянов Г.И.
Журнал: Кафедра травматологии и ортопедии @jkto
Рубрика: Обзор литературы
Статья в выпуске: 3 (49), 2022 года.
Бесплатный доступ
До настоящего времени для выявления патологических изменений костно-хрящевой системы используют рутинные лабораторные методы исследования показателей крови и мочи, как наиболее экономически выгодные и социально доступные средства медицинского контроля. В то же время изменения показателей, связанные с фосфорно-кальциевым обменом, свидетельствуют об уже сформировавшемся повреждении, в то время как на ранних этапах возникновения патологического процесса они малоинформативны.Следовательно, поиск, выявление и изучение новых биохимических маркеров для ранней диагностики патологии костно-хрящевой системы является актуальной задачей.Цель исследования - выделить наиболее значимые биомаркеры в диагностике ранних изменений костно-хрящевых структур при остеоартрите. Материалы и методы. В ходе работы был проведен обзор современной отечественной и зарубежной литературы за последние 5 лет, в которой проводились исследования биохимических маркеров для ранней диагностики изменений в костно-хрящевой ткани, используя возможности интернет -ресурсов PubMed, Elibrary, Cyberleninka.Выводы. Были определены базовые маркеры, свидетельствующие о формировании изменений в костно-хрящевой ткани, а также специфические маркеры, характерные для конкретной ее патологии. Благодаря динамичности биохимических показателей костной ткани, можно своевременно оценить баланс между образованием костной ткани и процессами ее резорбции. Изучена степень специфичности маркеров для постановки диагноза.
Костно-хрящевая патология, биомаркеры, диагностика
Короткий адрес: https://sciup.org/142237444
IDR: 142237444 | УДК: 617.3 | DOI: 10.17238/2226-2016-2022-3-90-98
Текст обзорной статьи Ранняя диагностика костно-хрящевых изменений при остеоартрите (литературный обзор)
Патология костно-хрящевой системы - гетерогенная группа заболеваний различной этиологии со сходными биологическими, морфологическими, клиническими проявлениями и исходом, в основе которых лежит поражение всех компонентов сустава: хряща, субхондральной кости, синовиальной оболочки, связок, капсулы, околосуставных мышц [1]. Повсеместно, около 18% женщин и 9,6% мужчин старше 60 лет имеют деструктивные изменения в суставах, причем, четверть из них — это люди, неспособные выполнять обычную, повседневную деятельность [1,2]. Прогнозируется, что к 2050 году 130 миллионов человек будут иметь остеоартрит, как самую частую патологию костнохрящевой системы [3]. К тому же остеоартрит является и самой быстро растущей причиной инвалидности во всем мире [3,4].
Основные причины остеоартрита:
-
1. внутри- и околосуставные переломы;
-
2. дисплазии;
-
3. ревматоидный артрит - аутоиммунное заболевание, при котором защитные иммунные клетки организма утилизируют собственные клетки, принимая их за чужеродные. Этиология данного заболевания до конца пока не ясна. Заболевание чаще поражает женщин (в 3–5 раз). Также встречается ювенильный ревматоидный артрит (ювенильный идиопатический артрит) – детская форма, которая возникает у детей и подростков моложе 16 лет.
-
4. инфекционные заболевания, при которых наблюдаются симптомы артрита, например, туберкулез, бруцеллез, клещевой боррелиоз и др.
-
5. Системные заболевания соединительной ткани (псориаз, системная красная волчанка и др.);
-
6. метаболические заболевания (например, подагра);
-
7. гормональные нарушения (у женщин это часто связано с климаксом).
Нарушения обмена веществ в синовиальной жидкости приводит к недостаточному питанию хряща, замедлению процессов обновления погибших клеток и провоцирует его разрушение. Поэтому, независимо от того, что явилось конкретной причиной остеоартрита, главный механизм его запуска заключается в нарушении баланса между процессами разрушения и восстановления в тканях сустава. Баланс — это катаболические и анаболические процессы, находящиеся в динамическом равновесии. Например, за ингибирование катаболических ферментов отвечают тканевой ингибитор матричных метал-лопротеаз и ингибитор активатора плазминогена, которые вызывают дегенерацию хряща. Некоторые полипептидные медиаторы стимулируют анаболические процессы в хряще, что способствует формированию его новых структур. Эта группа медиаторов включает в себя трансформирующий фактор роста и инсулиноподобный фактор роста-1, которые стимулируют синтез протеогликанов и костные морфогенетические белки. Избыточная активность матричных металлопротеаз начинает разрушать строительные блоки хряща в ответ на дисбаланс во внеклеточном матриксе. Активность этих компонентов контролируется цитокином интерлейкин-1 (ИЛ-1).
Любой дисбаланс между дегенерацией и регенерацией матрицы приводит к понижению содержания компонентов внеклеточного матрикса, таких как коллаген II типа, что приводит к потере массы хряща. На хрящевые клетки оказывают прямое влияние лизосомальные протеазы (катепсины) и матричные металлопротеазы (аггрекеназы, коллагеназы, стромелизин), которые при нейтральном рН разрушают хрящевую ткань [5, 14].
При этом первым этапом непосредственно костной регенерации является пролиферация предшественников остеогенных клеток, их миграция в область дефекта (повреждения) и дифференцировка. Предшественники постоянно присутствуют в костной ткани и расположены бессистемно. В результате деятельности клеток дифферонов дефект заполняется волокнистыми элементами и гранулярным материалом, содержащим протеогликаны, необходимые для синтеза коллагена. Врастание сосудов в эту область стимулирует дальнейшую дифференцировку и формирование костных клеток. Вторым этапом идет ремоделирование костных балок и дальнейшая дифференцировка предшественников. После формирования органотипичной костной ткани ремоделирование может повторяться неоднократно в зависимости от условий механотрансдукции [5].
Однако в случае выраженного повреждения костной ткани, нарушения ее питания полноценная регенерация невозможна. При значительном нарушении кровоснабжения костной ткани (в частности, субхондральной) дифференцировка предшественников остеогенных клеток значительно замедляется или прекращается, рост грануляционной ткани невозможен, либо также резко снижен. В результате чего образование регенерата идет по патологическому пути. Развивается асептический некроз костной ткани, ее резорбция с формированием костных кист, компенсаторная выраженная краевая гипертрофия. Это типично для случаев повреждения хрящевой и костной ткани суставов.
Таким образом, основными условиями регенерации кости являются не только стимуляция регенерации хрящевой ткани с замещением первичных хрящевых дефектов, но и сохранение физиологических механобиохимических факторов. Принципиально важным является сохранение, восстановление и стимуляция полноценного питания субхондральной кости. При этом процессы регенерации обеих тканей являются в значительной мере взаимосвязанными.
До настоящего времени для выявления патологических изменений костно-хрящевой системы используют рутинные лабораторные методы исследования показателей крови и мочи, как наиболее экономически выгодные и социально доступные средства медицинского контроля. В то же время изменения показателей, связанные с фосфорно-кальциевым обменом, свидетельствуют об уже сформировавшемся повреждении, в то время как на ранних этапах возникновения патологического процесса они (Р и Са ) малоинформативны, потому что их концентрация в крови изменяется при состоявшейся патологии, а не заблаговременно. Следовательно, поиск, выявление и изучение новых биохимических маркеров для ранней диагностики остеоартрита является актуальной задачей.
Цель исследования: определение специфических биомаркеров наиболее значимых в диагностике ранних изменений костно-хрящевой структуры при остеоартрите.
Материалы и методы исследования. Проведен обзор современной отечественной и зарубежной литературы за последние 5 лет, в которой проводились исследования биохимических маркеров для ранней диагностики изменений в костно-хрящевой ткани, используя возможности интернет – ресурсов PubMed, Elibrary, Cyberleninka.
Базовые маркеры изменений костно-хрящевой структуры, не являются специфичными для того или иного заболевания: щелочная фосфатаза, CRB, СОЭ, мочевая кислота, Са++ общий и свободный, кальцитонин и антигиалуронидаза. Однако они отличаются от референтных значений при патологии.
Например, самой специфичной и достоверной в прогно-зированиии подагрического остеоартрита является мочевая кислота. Мы согласны с Трунилиной Н.И., что еще задолго до появления тофусов кристаллы мочевой кислоты откладываются в мягких тканях, особенно в суставах, а также ураты-соли мочевой кислоты – в других мелких суставах, сухожилиях, хрящах и коже [6]. Своевременная фиксация их появления способствует ранней диагностике подагрического остеоартрита.
Процессы разрушения и формирования костной массы в организме идут непрерывно. Их баланс определяется маркерами костной резорбции и синтеза. Дисбаланс маркеров специфичен для остеоартрита. Маркеров, характеризующих патологию костно-хрящевой системы, много. Мы подвергли анализу самые специфичные, универсальные и технологически легкие для воспроизводства маркеры костной резорбции и синтеза.
Маркеры костного формирования
Идеальный маркер костеобразования должен быть структурным белком, высвобождающимся в кровь со скоростью пропорциональной его включению в кость, при этом свободная фракция не должна изменяться при различных патологических состояниях, а высвобождаться в неизменном виде в процессе костной резорбции. Необходимым условием является также знание метаболических превращений маркера и времени его полураспада. Несмотря на то, что ни один из определяемых в настоящее время маркеров не отвечает полностью необходимым требованиям для своевременного прогнозирования патологии, все же, например, щелочная фосфотаза показательно отражает остеобластическую функцию при остеоартритах различного генеза [7].
Костный изофермент щелочной фосфатазы (КЩФ). Исследования различных авторов [8,9,10] подчеркивают, что анализ показателей КЩФ существенно повышает точность дифференциальной диагностики заболеваний скелета и печени. Они являются наиболее информативными для ранней диагностики остеоартрита. Локализованный на мембране остеобластов и высвобождающийся в кровоток в процессе их жизнедеятельности КЩФ является маркером специфичным, информативным и дешевым. Изоферменты печеночного и костного происхождения кодируются одним геном и отличаются только вследствие посттрансляционных модификаций. Разработаны высокоспецифичные иммунорадиометрические и иммунофер-ментные методики определения КЩФ. Уровень КЩФ является чувствительным маркером ускоренного метаболизма кости во время артрито-артрозных деструкций. Повышение активности КЩФ достоверно превосходит увеличение содержания общей щелочной фосфатазы (ЩФ). Значительное повышение активности КЩФ наблюдается также при первичном и вторичном остеопорозе, остеомаляции, связанной с дефицитом витамина D. Нормальный уровень щелочной фосфатазы в крови от 44 до 147 МЕ/л. Пониженный уровень щелочной фосфатазы - основной показатель гипофосфатазии (редкого заболевания костной ткани), которое характеризуется нарушением формирования скелета, задержкой физического развития, переломами и т.д. Такую диагностическую информацию можно получить при исследовании КЩФ уже на ранних стадиях развития остеоартрита [11,12].
Остеокальцин (ОК). Уникальность структуры ОК, содержащей три остатка у-карбоксиглутаминовой кислоты, заключается в высокой способности к связыванию с гидроксиапатитом. Часть синтезированного ОК проникает в системный кровоток, где может быть обнаружен различными методами, наиболее употребительными из которых в настоящее время являются иммуноферментные. Циркулирующий ОК имеет короткий период жизни (15–70 мин.) и быстро выводится почками. Уровень ОК в сыворотке крови коррелирует с ростом скелета в период полового созревания и повышается при ряде заболеваний, которым свойственно увеличение скорости ремоделирования кости — гиперпаратиреозе, акромегалии. Напротив, он понижается при гипотиреозе, гипопаратиреозе, гиперкортицизме. Сравнение уровня сывороточного ОК с результатами гистоморфометрии костных биоптатов и данными кинетических исследований кальциевого обмена показало, что ОК служит адекватным маркером скорости ремоделирования при сопряжении процессов резорбции/синтеза костной ткани и является специфическим маркером костеобразования. Несомненно, его определение и анализ перспективны в ранней диагностике не только остеоартрита, но и другой патологии костно-хрящевой системы, что доказывается рядом проведённых исследований [12, 13].
Пропептиды проколлагена I типа. Они образуются в результате внеклеточного процессинга проколлагена I типа путем отщепления N- и С-концевых пептидов. Оба типа пропептидов циркулируют в сыворотке крови в виде отдельных цепей с молекулярной массой около 100 кД, что делает доступным их прямое определение методом имму-ноферментного анализа. Возможность их использования в качестве маркеров формирования костной ткани в ранней диагностики костно-хрящевой патологии обсуждается из-за недостаточной чувствительности и специфичности [14,15,16]. Поэтому, лишь совместные, одновременные анализы крови на маркеры костной резорбции (B-CrossLaps и Pyrilinks-D) и формирования костной ткани (остеокальцин и щелочную фосфатазу), использование денситометрии позволяют оценить состояние костной ткани при остеопорозном остеоартрите, болезни Педжета или метастатических поражениях костей. Из-за большого числа необходимых исследований, обуславливающих общую дороговизну диагностических мероприятий, определение этого маркёра пока остаётся не актуальным. Но при этом данный тест используется для контроля за результатом лечения патологий костной ткани. Он оценивается с учетом изменений в клинической картине заболевания, данных других анализов, показателей денситометрии [14,15,16].
Маркеры костной резорбции
Требования к оптимальному маркёру остеокластической активности:
-
1. продукт деградации компонентов костного матрикса, неприсутствующий в других тканях;
-
2. уровень в крови не должен зависеть от эндокринных факторов;
-
3. не подвергается реутилизации в процессе очередного цикла костного формирования.
Пиридинолин (ПИД) и дезоксипиридинолин (ДПИД). Они являются фрагментами поперечных сшивок коллагена I типа. Стабильность коллагенового матрикса обеспечивается межмолекулярными связями, образующимися между гидроксилизином и лизином, входящими в полипептидную цепь коллагена. Лизилоксидаза окисляет остатки гидроксилизина до альдегидов, которые конденсируются с остатками гидроксилизина или лизина соседних молекул коллагена и образуют перекрестные сшивки между двумя полипептидными цепями. Надо ли так подробно в биохимии для травматологов? При дальнейшей конденсации с новым альдегидом формируются два типа мостиков между тремя молекулами коллагена - ПИД и ДПИД. ПИД формируется из трех остатков гидроксилизина, ДПИД - из двух остатков гидроксилизина и одного остатка лизина. Общая концентрация ПИД и ДПИД в кости составляет всего 0,3 моль/моль коллагена, из них на долю последнего приходится 22%. Наличие в моче молекул с пиридиновыми сшивками свидетельствует об имеющимся процессе резорбции костной ткани. При этом более явных признаков остеоартрита (клинических, лучевых, лабораторных), как правило, ещё пока нет. Этим обстоятельством можно воспользоваться для ранней диагностики патологии [17,18]. Однако существенным тормозящим фактором широкого распространения этого исследования является его дороговизна.
В качестве показателя резорбции определение этих маркеров имеет ряд преимуществ перед традиционным тестом на гидроксипролин. В отличие от гидроксипролина, сшитые пиридином аминокислоты не подвергаются катаболизму и полностью экскретируются. Кроме того, они практически не всасываются в пищеварительном тракте, поэтому их уровень не зависит от характера питания.
В многочисленных работах последних лет показано, что экскреция с мочой ПИД/ДПИД значительно возрастает у пациентов с остеопорозными деструктивными межфасеточными артритами позвоночника. Уровень в моче ПИД и особенно ДПИД ярко коррелируется со скоростью костного обмена, измеренного гистоморфометрически с помощью кальцийки-нетических методов. Для оценки резорбции кости используется определение отношения ПИД или ДПИД к концентрации креатинина в утренней порции мочи [19].
Продукты деградации коллагена I типа (карбокси- и аминотерминальные телопептиды — СТХ и NTX, соответственно). Во время обновления костной ткани коллаген I типа деградирует и небольшие поперечно сшитые пептидные фрагменты попадают в кровь и выделяются почками. Продукты распада коллагена можно определять как в моче, так и сыворотке крови с использованием тест-систем различных производителей. Для первичного остеопорозного остеоартрита характерно увеличение карбокситерминального телопептида (СТХ, коммерческие наборы ß CrossLaps). В некоторых исследованиях показано, что маркер резорбции ß CrossLaps может увеличиваться в сыворотке крови и моче почти в 2 раза. В то же время фиксирован- ное первичное увеличение этого показателя и своевременная фиксация начала этого феномена уже позволяет предположить формирования остеоартрита [20,21,22,23].
Галактозилгидроксилизин (ГГЛ). Гликозилированная аминокислота характерна для костной ткани и считается весьма специфическим индикатором распада костного коллагена. В отличие от гидроксипролина, ГГЛ не только не используется повторно для синтеза коллагена, но и не подвергается распаду в организме. Кроме того, его содержание в моче практически не зависит от характера питания.
Уровень ГГЛ в моче рассчитывают по отношению к концентрации креатинина. Отношение ГГЛ/креатинин повышается, причем оно обратно пропорционально плотности кости, что предполагает формирование различных патологических процессов костно-хрящевой ситемы, в том числе и остеоартритов на фоне остеопорозных изменений. В клинической рутинной практике использование этого достаточно информативного показателя не востребовано из-за трудоемкости [20,21,22,23].
Тартратрезистентная кислая фосфатаза. Она является маркерным ферментом остеокластов, железосодержащим гликопротеином, массой 30–40 кДа. Увеличение ее уровня отмечено при различных метаболических заболеваниях костей, сопровождающихся ускорением обмена костной ткани. Активность фермента во всех случаях была обратно пропорциональна плотности кости, качество которой может подтвердить наличие или отсутствие патологии. Информативность данного маркёра позволяет надеяться о его перспективности в ранней диагностики остеоартрита [20,21,22,23].
Анализируемые маркеры не являются базисными, классическими или бюджетными, и пока не используются в первичной диагностике патологий костно-хрящевой системы на поликлиническом, да и стационарном уровне, но, обладая специфичностью, они являются перспективными для дифференцировки, уточнения диагноза, контроля терапии и дальнейшего наблюдения за динамикой патологического процесса.
Обсуждение
Причиной выбора нами двух групп маркеров синтеза и деструкции костно-хрящевой системы для ранней диагностики остеоартрита объясняется особенностями цикла жизнедеятельности человека, основой которого является непрерывность процессов разрушения и формирования костной массы. Ранняя фиксация дисбаланса маркеров костной резорбции и синтеза указывает на запуск патологических изменений при начальных признаках остеоартрита. Представителей этих групп маркеров необходимо рассматривать одновременно, в сравнении и динамике. Согласно имеющимся данным, биохимические показатели образования и резорбции костной ткани довольно точно отражают динамику изменений, происходящих как на начальных этапах формирования патологии, так и после 2–3 месяцев лечения остеоартроза [24]. Анализ их показателей по- зволяет так же оценить эффективность терапии, не дожидаясь истечения 12–24 месяцев для констатирования изменения МПКТ по рентгенологическим показателям [25,26].
Биохимические маркеры костного метаболизма обладают высокой прогностической ценностью [27]. Так, высокие уровни маркеров резорбции кости (превышение более чем на 2 SD), свидетельствуют об увеличении риска возникновения переломов в 2 раза, а превышение более чем на 3 SD свидетельствует об иной природе костной патологии, включая злокачественную [28]. Результаты одновременного однократного анализа ОК, ДПИД и ГП могут прогнозировать скорость последующей потери костной ткани на протяжении 2 лет, а у женщин, отнесенных на основании определения биохимических маркеров к категории лиц с быстрой потерей костной ткани (более 3% в год), повышенная скорость утраты костной ткани сохраняется на протяжении последующих 12 лет. Это показали результаты исследования, в котором принимали участие 429 женщин в возрасте от 21 до 79 лет. Костные маркеры позволяли предсказать возникновение перелома бедренной кости с точностью до 55%, тел позвонков – до 65 %. Эти данные подтверждают гипотезу о возможном применении маркеров костного метаболизма как дополнительного фактора для предсказания снижения плотности костной ткани и вероятности возникновения переломов, а также для определения плана лечения [29]. Несмотря на то, что по другим источникам [30,31] маркеры костного метаболизма обладают различной диагностической ценностью, в целом можно констатировать, что они достаточно информативны. Так, в исследовании группы врачей института эндокринологии [32] показано, что у женщин в период менопаузы уровни маркеров резорбции и образования кости увеличиваются в среднем, соответственно, на 79–97% и 37-52% [33]. На фоне проводившегося лечения все значения маркеров значительно уменьшались. Процент снижения значений маркеров коррелирует с увеличением плотности кости, о чем судят по показателям денситометрии. Авторы пришли к мнению о невозможности суждения о состоянии костно-хрящевых структур лишь по биомаркерам из-за недостаточной их специфичности [34]. При этом биохимические маркеры значительно раньше позволяют определить эффективность лечения (например, уровень КТТК уже через 2 недели после начала терапии снижается в среднем на 25%), чем измерение плотности костной ткани, при котором надежные данные можно получить не ранее чем через 6–12 мес. Для оценки эффективности терапии и предсказания возможности переломов более информативны маркеры резорбции, чем показатели формирования кости [35]. Высокая чувствительность маркеров резорбции кости в отношении реакции организма на специфическое лечение позволяет вовремя скорректировать объём и характер терапии.
Как показала практика, [36,37] наиболее успешное клиническое применение маркеров ремоделирования костной ткани состоит в контроле за эффективностью проведения антире-зорбтивной терапии, например, бисфосфонаты (представляют собой класс препаратов, предотвращающих потерю плотности костной ткани, используемых для лечения остеопороза и подобных заболеваний). Это наиболее часто назначаемые препараты, используемые для лечения остеопороза. (Их называют бисфосфонатами, потому что они содержат две фосфонатных группы).
Так, в ряде исследований показано снижение активности процессов резорбции на протяжении 4–6 недель с достижением пика активности остеогенеза через 2-3 месяца от начала лечения бисфосфонатами. Кроме того, было выявлено более существенное снижение уровня маркеров резорбции при назначении бисфосфонатов [37]. Перспективным считается исследование и других остеоспецифичных энзимов. Так, по данным А. А. Венедиктовой, с соавторами выявлена тенденция к повышению активности лизосомального фермента остеокластов катепсина-К на ранних этапах развития остеопороза у крыс [38, 39].
В исследованиях ученых из Гамбурга [40] сравнивается изменение концентрации маркеров остеогенеза на фоне антирезорб-тивной терапии с риском возникновения трещин и переломов на фоне остеоартритов. Как оказалось, невозможно точно оценить состояние костной ткани лишь по одной группе биомаркеров. Это подтверждает мета-анализ 18 клинических исследований [41], который показал, что снижение в ходе лечения на 70% уровня маркеров резорбции уменьшает риск переломов позвоночника на 40%, а снижение концентрации маркеров остеогенеза на 50% уменьшает риск переломов на 44%. Эти результаты можно объяснить динамическим изменением характеристик прочности скелета в процессе лечения, и тем, что недостаточно изучен индивидуальный вклад каждого маркера в процессы восстановления структуры костной ткани [42]. Тем не менее, результаты большинства клинических исследований показывают, что риск возникновения патологии (остеоартрита, переломов и др.) во многом зависит от исходного соотношения показателей маркеров костного ремоделирования [31,32]. Хотя для постановки диагноза «остеоартрит» необходима так же визуализация результатов клинической картины, УЗИ, рентгенографии, МРТ и КТ [43, 44].
В последние годы с целью оптимизации диагностического процесса активно внедряются полностью автоматические системы определения анализируемых маркеров при помощи электрохемилюминесцентных анализаторов, что обеспечивает высокую воспроизводимость, точность и надежность исследования. Однако эти более информативные, современные маркеры костного метаболизма из-за высокой стоимости исследований пока не получили широко распространения для ранней диагностики остеартрита и не доступны пациентам в рамках ОМС.
Заключение
Остеоартрит, несмотря на свою гетерогенность, характеризуется клеточным стрессом и деградацией экстрацеллюлярного матрикса всех тканей сустава, возникающих на фоне макро- и микроповреждений. При этом активируются патологические адаптивные восстановительные ответы, включая провоспали-тельные пути иммунной системы. Первоначально изменения происходят на молекулярном уровне с последующими анатомическими и физиологическими нарушениями (деградация хряща, воспаление, костное ремоделирование, образование остеофитов и т.д.), приводящими в результате взаимодействия возрастных, гормональных, генетических и средовых факторов, к развитию заболевания, в котором ключевую роль играют провоспалительные медиаторы и цитокины, вырабатываемые не только хондроцитами и синовиоцитами, но и клетками жировой (адипоциты) и костной (остеобласты) ткани.
Проведя обзор и изучив наиболее актуальные биомаркеры для ранней диагностики патологии костно-хрящевых структур при остеоартрите, мы пришли к заключению:
-
1. Костно-хрящевые биомаркеры являются современным и достаточно точным методом фиксации начала развития патологических изменений костно-хрящевых структур при остеоартрите и контроля за их динамикой.
-
2. Из биомаркеров формирования кости наиболее информативными и перспективными являются остеокальцин и костный изофермент щелочной фосфатазы (КЩФ). При этом необходима оценка концентрации остеокальцина, С-терминального про-пептида проколлагена I типа и N-терминального пропентида проколлагена I типа.
-
3. Наиболее информативный и перспективный биомаркер резорбции кости -дезоксипиридинолин. Для его оценки требуется определение концентрации С - терминального телопентида коллагена I типа и активности тартратрезистентной кислой фосфатазы плазмы крови, концентрации дезоксипиридино-лина в моче.
-
4. Биохимические показатели костной ткани достаточно динамичны, благодаря чему позволяют своевременно оценить баланс между образованием костной ткани и процессами ее резорбции.
-
5. Автоматические системы определения маркеров при помощи электрохемилюминесцентных анализаторов, обеспечивающие высокую воспроизводимость, точность и надежность исследования - перспективное направление диагностического процесса. Их использование позволяет экономить реактивы и время, допускает выполнение не только серийных, но и единичных исследований, что важно для динамического наблюдения за течением патологического процесса.
Таким образом, в настоящее время клиническая медицина располагает широким арсеналом современных диагностических возможностей, использование которых имеет существенное значение как для прогнозирования риска развития остеоартрита различного генеза, ранней его диагностики, так и для оценки эффективности терапии.
В целом изучение биохимических показателей костного метаболизма в динамике способствует лучшему пониманию механизмов патогенеза метаболических нарушений обмена костной ткани и открывает широкие перспективы их использования в клинической практике.
Список литературы Ранняя диагностика костно-хрящевых изменений при остеоартрите (литературный обзор)
- О. А. Каплунов, К. О. Каплунов, Е. Ю. Некрасов. К вопросу о консервативной терапии остеоартроза коленного сустава в амбулаторной практике //Лечащий врач. 2021, №11, C. 20–23. DOI: 10.26295/OS.2020.32.53.010/ ISSN 2687–1181. [O. A. Kaplunov, K. O. Kaplunov, E. Y. Nekrasov. On the issue of conservative therapy of knee osteoarthritis in outpatient practice //Attending physician. 2021, No.11, pp. 20-23. DOI:10.26295/OS.2020.32.53.010/ ISSN 2687-1181]
- Cauley JA. Osteoporosis: fracture epidemiology update 2016. Curr Opin Rheumatol. 2017; 29: pp. 150–156. doi: 10.1097/BOR.0000000000000365.
- А. Л. Кебина, А. С. Сычева, С. В. Шустова, А. Л. Верткин. Эффективность применения комбинированного препарата НПВП с витаминами группы В, при заболеваниях костно-мышечной системы// Лечащий врач, 2020, №4, С.13-17. DOI: https://doi.org/10.26295/OS.2020.83.89.011/ ISSN 1560-5175. [A. L. Kebina, A. S. Sycheva, S. V. Shustova, A. L.Vertkin. The effectiveness of the combined NSAID drug with B vitamins in diseases of the musculoskeletal system// Attending Physician, 2020, No.4, pp.13-17. DOI: https://doi.org/10.26295/OS.2020.83.89.011 / ISSN 1560-5175 ]
- Ballane G, Cauley JA, Luckey MM, El-Hajj Fuleihan G. Worldwide prevalence and incidence of osteoporotic vertebral fractures. Osteoporos Int. 2017; 28: pp. 1531–1542. DOI 10.1007/s00198-017-3909-3.
- О. Н. Тутова. Регенерация хрящевой ткани: учеб. пособие / О. Н. Тутова. Казань: Казанский ГМУ. 2018.- 33 с./ УДК 611.018.3(075.8). [O. N. Tutova. Regeneration of cartilage tissue: studies. manual / O. N. Tutova. Kazan: Kazan State Medical University. 2018.- 33 p./ UDC 611.018.3(075.8)]
- Трунилина Н.И. Биохимия крови / МГМСУ кафедра биохимии. Москва. 2020. [Trunilina N.I. Biochemistry of blood / MGMSU Department of Biochemistry. Moscow. 2020]
- José Luis Millán. Alkaline Phosphatases: Structure, substrate specificity and functional relatedness to other members of a large superfamily of enzymes (англ.). Purinergic Signalling. 2006-06; Vol. 2, iss. 2. pp. 335–341. — ISSN 1573-9546 1573-9538, 1573-9546. —DOI:10.1007/s11302-005-5435-6
- Tamás L., Huttová J., Mistrk I., Kogan G. Effect of carboxymethyl chitin-glucan on the activity of some hydrolytic enzymes in maize plants (англ.). Chem. Pap. journal. 2002; Vol. 56, no. 5. pp. 326—329.
- Ujjawal Sharma, Deeksha Pal, Rajendra Prasad. Alkaline Phosphatase: An Overview. Indian Journal of Clinical Biochemistry. 2014- 07; Vol. 29 (iss. 3): S. 269–278. - ISSN 0974–0422 0970-1915, 0974-0422. - DOI: 10.1007/s12291-013-0408-y.
- Dhruv Lowe , Terrence Sanvictores , Savio John “Alkaline Phosphatase”. Stat Pearls Publishing; 2022 Jan–. PMID: 29083622.
- Фуко П, Фуко М. Х, Кучаревич Б, Бюро Ф, Аликс М, Дросдовский М. А. Значение исследования общих щелочных фосфатаз и костного изофермента в популяции больных остеопорозом. Annales de Biologie Clinique. 1991; 49 (9): 477–81. PMID 1789501. [Foucault P., Foucault M. X, Kucherevich B., Bureau F., Alex M., Drozdovsky M. A. The significance of the study of total alkaline phosphatases and bone isoenzyme in the population of patients with osteoporosis. Annales de Biologie Clinique. 1991; 49 (9): 477-81. Identification number 1789501].
- Robinson D., Sandblom G., Johansson R., Garmo H., Stattin P,. Mommsen S, Varenhorst E. Прогнозирование выживаемости метастатического рака предстательной железы на основе ранних серийных измерений простатспецифического антигена и щелочной фосфатазы // Журнал урологии. 2008. 179 (1): С. 117-22, DOI: 10.1016/j. juro.2007.08.132. PMID 17997442. [Robinson D., Sandblom G., Johansson R., Gamma H., Static P., Momsen S., Warenhorst E. Prediction of metastatic prostate cancer survival based on early serial measurements of prostate- specific antigen and alkaline phosphatase // Journal of Urology. 2008. 179 (1): pp. 117-22, DOI: 10.1016/j.juro.2007.08.132. Identification number 17997442]
- Garen A., Levinthal C. A fine-structure genetic and chemical study of the enzyme alkaline phosphatase of E. coli. I. Purification and characterization of alkaline phosphatase. Biochim. Biophys. Acta. 1960 March; vol. 38: pp. 470—483. — DOI:10.1016/0006-3002(60)91282-8. — PMID 13826559.
- Alkaline Phosphatase Level Test (ALP) (англ.). Healthline (10 августа 2018). Дата обращения: 23 декабря 2020.
- Alkaline Phosphatase Level Test (ALP) (англ.). Healthline (10 августа 2018). Дата обращения: 14 августа 2021.
- Markus J Seibel. Biochemical Markers of Bone Turnover Part I: Biochemistry and Variability. Clin Biochem Rev. 2005 November; 26(4): pp. 97–122. PMCID: PMC1320175.
- McCormick R. Osteoporosis: integrating biomarkers and other diagnostic correlates into the management of bone fragility. Alternative Medicine Review. 2007; Vol. 12. N 2. P. 127. PMID 17604458.
- И. П. Ермакова, И. А. Пронченко. Современные биохимические маркеры в диагностике остеопороза / Медицинский научно-практический журнал Остеопороз и остеопатии. 1998. № 1. [I. P. Ermakova, I. A. Pronchenko. Modern biochemical markers in the diagnosis of osteoporosis / Medical scientific and practical journal of Osteoporosis and Osteopathy. 1998. № 1]
- Harada M, Udagawa N, Fukasawa K, Hiraoka BY, Mogi M. Inorganic pyrophosphatase activity of purified bovine pulp alkaline phosphatase at physiological pH. J Dent Res. 1986 Feb;65(2):125-7. DOI: 10.1177/00220345860650020601. PMID: 3003174.
- О. С. Костарева, А. Г. Габдулхаков, И. А. Коляденко, М. Б. Гарбер, С. В. Тищенко. Интерлейкин-17: функциональные и структурные особенности; использование в качестве терапевтической мишени// Успехи биологической химии, 2019, Т. 59. С. 393–418. https://doi.org/10.36233/0372-9311-28 [O. S. Kostareva, A. G. Gabdulkhakov, I. A. Kolyadenko, M. B. Garber, S. V. Tishchenko. Interleukin-17: functional and structural features; use as a therapeutic target// Successes of Biological Chemistry, 2019, vol. 59. pp. 393-418]
- Julian-Almarcegui C, Gomez-Cabello A, Huybrechts I, et al. Combined effects of interaction between physical activity and nutrition on bone health in children and adolescents: a systematic review. Nutr Rev. 2015; 73: pp.127–139. DOI: 10.1093/nutrit/nuu065. PMID: 26024536.
- Ларина В. Н., Михайлусова М. П., Распопова Т. Н. Применение биохимических маркеров костного обмена в повседневной деятельности врача // Лечебное дело. 2015. №2. DOI: 10.17238/issn2223-2427.2019.1.45-47. [Larina V. N., Mikhailusova M. P., Raspopova T. N. The use of biochemical markers of bone metabolism in the daily activities of a doctor. 2015. №2. DOI: 10.17238/issn 2223–2427.2019.1.45-47]
- Гребенникова Т. А., Трошина В. В., Белая Ж. Е. “Маркеры и генетические предикторы остеопороза в рутинной клинической практике” Consilium Medicum, vol. 21, no. 4, 2019, pp. 97-102. DOI: 10.26442/20751753.2019.4.190323. [Grebennikova T. A., Troshina V. V., Belaya Zh. E. “Markers and genetic predictors of osteoporosis in routine clinical practice” Consilium Medicum, vol. 21, No. 4, 2019, pp. 97-102. DOI: 10.26442/20751753.2019.4.190323].
- Melton L. J, Chrischilles E. A, Cooper C., Lane A.W, Riggs B. L. Perspective. How many women have osteoporosis? J Bone Miner Res. 1992 Sep;7(9):1005-10. DOI: 10.1002/jbmr.5650070902. PMID: 1414493.
- Тихонова Г. А., Маркин А. А. Биомаркеры как инструменты развития биологии и медицины //Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Государственный научный центр Российской Федерации – Институт медико-биологических проблем Российской академии наук (ГНЦ РФ – ИМБП РАН)
- Маркеры метаболизма костной ткани. Точка доступа: BCM_CAT_07_qqq.indb (biochemmack.ru)
- Камилов Ф. X., Фаршатова В. Р., Еникеев Д. А. Клеточно-молекулярные механизмы ремоделирования костной ткани и её регуляция // Фундаментальные исследования. 2014. № 7–4. С. 836–842. УДК: 616.71 – 007.234: 611.018.4 [Kamilov F. X., Farshatova V. R., Enikeev D. A. Cellular-molecular mechanisms of bone tissue remodeling and its regulation // Fundamental research. 2014. No. 7-4. pp. 836-842]
- Don E.S, Tarasov A.V, Epshtein O.I, Tarasov S.A. The biomarkers in medicine: search, choice, study and validation. Klinicheskaya Laboratornaya Diagnostika. 2017.2062(1): 52-9. DOI: 10.18821/0869-2084-2017-62-1-52-59, PMID: 30615376
- Уровни opганизации минерального матрикса костной ткани и механизмы, определяющие параметры их формирования / А. С. Аврунин [и др.] // Морфология. 2005. Т. 127. № 2. С. 78–82. [Avrunin A. S. / Levels of organization of the mineral matrix of bone tissue and mechanisms determining the parameters of their formation // Morphology. 2005. Vol. 127. No. 2. pp. 78-82]
- Аврунин A. C. Остеоцитарное ремоделирование костной ткани: история вопроса, морфологические маркеры / А. С. Аврунин, Р. М. Тихилов // Морфология, 2011. Т. 139. № 1. С. 86-95. PMID: 21539093 [Avrunin A. S., Tikhilov R. M. / Osteocytic remodeling of bone tissue: background, morphological markers // Morphology, 2011. Vol. 139. No. 1. pp. 86-95]
- Возможности костной рентгеновской денситометрии в клинической практике (методические рекомендации) / И. А. Скрипникова (и др.) // Остеопороз и остеопатии. 2010. № 2. С. 26–38. [Skripnikov I. A./ Possibilities of bone X-ray densitometry in clinical practice (methodological recommendations) // Osteoporosis and osteopathy. 2010. No. 2. pp. 26-38]
- K. Engelke, C. C. Gluer. Quality and performance measures in bone densitometry // Osteoporosis Int. 2006; Vol. I7. ISS. 9: pp. 1283-1292. DOI: 10.1007/s00198-005-0039-0.
- C. M. Romero Barco. S. Manrique Arija, M. Rodriguez Piirez. Biochemical Markers in Osteoporosis: usefulness in Clinical Practice // Reumatol. Clin. 2012; Vol. 8.N.3: pp. 149-152. DOI: 10.1016/j.reuma.2011.05.010.
- Eastell R, O’Neill TW, Hofbauer LC, et al. Postmenopausal osteoporosis. Nat Rev Dis Primers. 2016; 2: pp. 160-69. DOI: 10.1038/nrdp.2016.69.
- Liu N., Zeng F., Zhang K., Tang Z. A community-based cross-sectional study for relationship of frequency of vegetables intake and osteoporosis in a Chinese postmenopausal women sample. BMC Womens Health. 2016; 1: S. 28. DOI: 10.1186/s12905-016-0307-5.
- Поворознюк, В. В. Остеопороз и биохимические маркеры метаболизма костной ткани // Лабораторная диагностика. 2002. № 1. С. 53–61. УДК 577.1:616:71.004.68. [Povoroznyuk, V. V. Osteoporosis and biochemical markers of bone metabolism// Laboratory diagnostics. 2002. No. 1. pp. 53-61]
- Эриксен Э. Ф., Диес-Перес А., Боонен С. «Обновленная информация о долгосрочном лечении бисфосфонатами постмено- паузального остеопороза: систематический обзор». Кость. 58. С. 126–135. DOI: 10.1016/j.bone.2013.09.023. [Eriksen E.F., Diaz-Perez A., Boonen S. “Updated information on long-term bisphosphonate treatment of postmenopausal osteoporosis: a systematic review.” Bone. 58. pp. 126–135]
- Венедиктова А. А. Роль протеаз различных классов в развитии остеопороза у крыс: автореф. дис. ... канд. биол. наук. Новосибирск, 2009. 24 с.
- Роль протеаз различных классов в развитии остеопороза у крыс. / Венедиктова А.А. НИИФизиологии Сибирского отделения РАМН. Новосибирск. 2015.
- Crowe F.L, Steur M., Allen N. E, et al. Plasma concentrations of 25-hydroxyvitamin D in meat eaters, fish eaters, vegetarians and vegans: results from the EPIC-Oxford study. Public Health Nutr. 2011; 14: pp. 340–346. DOI: 10.1017/S1368980010002454.
- S. Harade, G. A. Rodan. Control of osteobIast function and regulation of bone mass // Nature. 2003; Vol. 423. № 6937: pp. 349-355. DOI: 10.1038/nature01660.
- Зайцева Н. В., Землянова М. А., Чащин В. П., Гудков А. Б. Научные принципы применения биомаркеров в медико-экологических исследованиях (обзор литературы) // Экология человека. 2019. № 9. С. 4–14. DOI: 10.33396/1728–0869-2019-9-4-14. [Zaitseva N. V., Zemlyanova M. A., Chashchin V. P., Gudkov A. B. Scientific principles of the use of biomarkers in medical and environmental research (literature review) // Human ecology. 2019. No. 9. pp. 4-14. DOI: 10.33396/1728-0869-2019-9-4-14].
- Dhonukshe-Rutten RA, van Dusseldorp M, Schneede J, et al. Low bone mineral density and bone mineral content are associated with low cobalamin status in adolescents. Eur J Nutr. 2005; 44: pp. 341–347. DOI: 10.1007/s00394-004-0531-x.
- Маркова О. Л., Шилов В. В., Кузнецов А. В., Метелица Н. Д. Сравнительная оценка подходов к проблеме биомониторинга здоровья человека отечественных и зарубежных исследователей // Гигиена и санитария. 2020. 99(6). С.545-550. DOI: 10.47470/0016-9900-2020-99-6-545-550. [Markova O. L., Shilov V. V., Kuznetsov A.V., Metelitsa N. D. Comparative assessment of approaches to the problem of human health monitoring by domestic and foreign researchers // Hygiene and sanitation. 2020. 99(6). pp.545-550. DOI: 10.47470/0016-9900-2020-99-6-545-550]
- Herrmann W, Obeid R, Schorr H, et al. Enhanced bone metabolism in vegetarians - the role of vitamin B12 deficiency. Clin Chem Lab Med. 2009; 47: pp. 1381–1387. DOI: 10.1515/CCLM.2009.302.
- Parsons T. J, van Dusseldorp M, van der Vliet M, et al. Reduced bone mass in Dutch adolescents fed a macrobiotic diet in early life. J Bone Miner Res. 1997; 12: pp. 1486–1494. DOI: 10.1359/jbmr.1997.12.9.1486.
- Curtis J. A, Kooh S. W, Fraser D., Greenberg M. L. Nutritional rickets in vegetarian children. Can Med Assoc J. 1983; 128: pp. 150–152.
- Шилова Л. Н., Паньшина Н. Н., Чернов А. С., Трубенко Ю.А., Хортиева С. С., Морозова Т. А., Паньшин Н. Г. Иммунопатологическое значение интерлейкина 17 при псориартрическом артрите //Современные проблемы науки и образования. 2015. № 6. УДК 616.72-002.77-06: 616.517-07 [Shilova L. N., Panshina N. N., Chernov A. S., Trubenko Yu.A., Khortieva S. S., Morozova T. A., Panshin N. G. Immunopathological significance of interleukin 17 in psoriarthric arthritis //Modern problems of science and education. 2015. № 6].
- Biologic markers in reproductive toxicology. Washington, DC, National AcademyPress. 1989. DOI: 10.17226/774
- Пикалюк В. С. /Современные представления о биологии и функции костной ткани / В. С. Пикалюк, С. О. Мосговой // Таврический медико-биологнческий вестник. 2006. Т. 9. № 3. С. 186-194.
- Нетюхайло. Л. Г. Метаболiзм кicткoвoi ткани и в нормi та при патологиii / Л. Г. Нетюхайло, Л. К. Iщейкiнa // Молодий вчений. 2014. № 6 (09). С. 152-158.