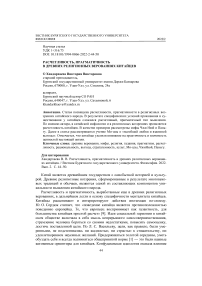Расчетливость, прагматичность в древних религиозных верованиях китайцев
Автор: Хандархаева Виктория Викторовна
Журнал: Вестник Бурятского государственного университета. Философия @vestnik-bsu
Статья в выпуске: 2, 2022 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена расчетливости, прагматичности в религиозных воззрениях китайского народа. В результате специфических условий проживания и существования у китайцев сложился расчетливый, прагматичный тип мышления. По мнению автора, в китайской мифологии и в религиозных воззрениях проявляется расчетливость китайцев. В качестве примеров рассмотрены мифы Чжи Нюй и Паньгу. Далее в статье рассматривается учение Мо-цзы о «всеобщей любви и взаимной выгоды». Отмечается, что китайцы уделяли внимание на практичность и значимость ценностей настоящей жизни.
Древние верования, мифы, религия, гадания, прагматизм, расчетливость, рациональность, выгода, стратагемность, культ, мо-цзы, чжинюй, паньгу
Короткий адрес: https://sciup.org/148324722
IDR: 148324722 | УДК: 1+316.75 | DOI: 10.18101/1994-0866-2022-2-44-50
Текст научной статьи Расчетливость, прагматичность в древних религиозных верованиях китайцев
Хандархаева В. В. Расчетливость, прагматичность в древних религиозных верованиях китайцев // Вестник Бурятского государственного университета. Философия. 2022. Вып. 2. С. 44‒50.
Китай является древнейшим государством с самобытной историей и культурой. Древние религиозные воззрения, сформированные в результате многовековых традиций и обычаев, являются одной из составляющих компонентов уникальности мышления китайского народа.
Расчетливость и прагматичность, выработанные еще в древних религиозных верованиях, в дальнейшем легли в основу специфичности менталитета китайцев. Китайцы расценивают и интерпретируют действия иноземцев по-своему. Ю. О. Сердюк считает, что «поведение китайца является противоположностью поведению европейца. То, что европеец воспринимает как галантность, для большинства китайцев простой расчет» [9]. Идея социальной гармонии в китайском обществе включала в себя мысль непрерывного самосовершенствования, стремление человека бороться со своими недостатками, повысить самооценку, достичь поставленной цели. По Л. С. Васильеву, цели, как правило, были умеренными, не подстегивались ни жадностью, ни страстью к стяжательству, ни удовлетворением неуемных желаний. Придерживаться золотой середины, уметь обуздать себя и всегда подчиняться общепринятой норме [1] — это были важные жизненные ориентиры для китайцев. Конфуцианская идеология оказала влияние на расчетливость и прагматичность китайцев, которая учила людей понимать социальную гармонию не в достижении удовлетворения бесконечных желаний, а в понимании cчacтья в тoм, чтo имeeтcя. Китaйцы привыкли cчитaть, что cчаcтье зависит не от внешниx обcтоятельcтв, а oт них cамих. В результате работоспособность, трудолюбие, умеренность, приcпocoбляемocть, расчетливость стали совокупностью неразрывно связанных собой черт в менталитете китайцев. Прагматичный китаец планирует до самых малейших детaлей наиболее выгодный путь для достижения цели.
Таким образом, отличительной чертой жителей «Поднебесной» являются принципы расчетливости и прагматичности. Эти черты отражаются и в религиозной традиции Китая. Религиозная картина добуддийского периода китайского народа имела свои особенности. Для китайского мышления характерны практичность, направленность на осуществление «полезных» задач в обществе. По выражению Л. С. Васильева, «нигде более мифологическое мышление столь быстро, резко и полно не было преодолено, как в Китае» [2].
Зарождение религиозной картины мира и верований в Китае во многом проявляется необходимостью иметь коммуникативные и регулятивные функции становления первобытного общества. «Разнообразные явления природы, например ветер, дождь, гром, молния, большие лесные пожары, движение солнца и луны, радуга, облака, зори и другие, вызывали у первобытных людей чувство глубокого изумления» [13]. Взаимосвязь человека с природой, со сверхъестественными явлениями приобрели ценность и значимость в социальной действительности древних китайцев.
В древнем обществе Китая гадания занимали важное место. Благодаря археологических находкам были обнаружены гадательные кости в стоянках культуры Луншань (эпоха неолита). «Гадательные обряды отличались от магических тем, что преследовали важную цель узнать о событиях, а не вызывать их» [11]. В гадательной практике китайцы стремились достичь цели без потерь, в этом ключе заключалась их практичность и рациональность. Должность гадателя считалась важной. Прежде всего, эту должность занимали очень грамотные и умные люди, освоившие очень сложную и трудную для воспроизведения пиктографическую систему письменности в китайской иероглифике. Гадатели были первыми представителями высокой социальной прослойки общества, которые играли важную роль в регулировании как государственно-административной, так и религиозноэтической жизни древних китайцев. «Практика гадания включала в себя непременный компонент в ритуале почитания предков, поскольку через гадание осуществлялось общение с предками. Через гадание происходило общение с духами предков, которые давали живым практические рекомендации по поводу тех или иных событий» [14]. Практика гаданий, молитв, жертвоприношений, а также прямая передача воли духов и предков узаконивали власть правителя. Древние китайцы считали, что путем осуществления жертвоприношений, исполнения ритуалов и гаданий правителем государства обеспечивались военные победы, богатый урожай, благополучие и процветание страны. Гадательные ритуалы осуществлялись на панцирях и щитах черепах, на костях животных и даже на стеблях тысячелистника. Общество, которое принимало участие в оккультных практиках, извлекало из этих действий определенную выгоду в повседневной жизни.
Следовательно, прагматичность китайцев проявлялась в гадательной практике прежде всего в их стремлении достичь практичного результата.
Прагматизм древних китайцев проявлялся и в мифах. В них подчеркивалась важная мысль о начале строительства мира, в котором древние божества давали китайцам необходимые навыки и знания в виде ремесла и культуры, для того чтобы они могли выжить в непростом мире и развить силу и веру в себя через ритуальные обряды поклонений божествам. Например, богиня ремесла Чжи Нюй ( 织 女 zhīnǚ «ткачиха»), которая не только даровала людям навыки всех видов искусства, но также показывала, как их правильно практично использовать в жизни. Первое упоминание о богине Чжи Нюй было изложено в оде «Великий Восток» из «Ши Цзина» ( 诗经 shījīng «Книги песен»). Чжи Нюй 12 месяцев в году трудилась в небесном дворце и ткала прекрасную парчу из облаков. Отец сжалился над ней и выдал замуж за Ню Лана, которого связывают со звездой Пастуха Альтаир (из созвездия Орла) [4]. После замужества Чжи Нюй перестала ткать небесную парчу. Согласно преданиям, Чжи Нюй свои отличительные заслуги и признания приписывала могущественной матери-природе, считая, что все свои действия и поступки она совершала на благо человечества, обучая и приобщая китайцев к труду и творчеству. Китайцы из поколения в поколение с благодарностью помнят образ Чжи Нюй, который навсегда остался в душах людей [12]. Перед смертью Чжи Нюй, подобно Паньгу, превратилась в разные вещи и существа на этой земле. В «Книге морей и гор» говорится о том, что кишки Нюйва превратились в десять святых, которые жили на долине Лигуан; поэтому им дали имена Нюйва-чжи чан («Кишки Нюйва»). «Если только из одних ее кишок получилось десять святых, то можно только предположить, в какие удивительные полезные вещи превратилось все ее тело» [12].
Существует еще одно мифологическое предание о сотворении мира в сочинении «Сань у ли цзи» («三五历记» sānwǔlìjì «Исторические записи о трех [правителях] и пяти [императоров]»), в котором первоначально мир представлял собой нечто схожее с куриным яйцом, впоследствии в нем зародилось первое живое существо — Паньгу [12] (盘古pángǔ — первый человек на земле согласно китайской мифологии). Мир пребывал в хаосе, не существовало ни неба, ни земли, ни солнца. По прошествии многих тысяч лет оно набрало необходимую силу и энергию, выросло до гигантских размеров, превратилось в существо, которое получило имя Паньгу [5]. «Дыхание Паньгу стало ветром и облаками, голос — громом, левый глаз — солнцем, правый — луной, четыре конечности и пять частей тела — четырьмя пределами земли (четырьмя сторонами света) и пятью священными горами, кровь — реками, жилы и вены — дорогами на земле, плоть — почвой на полях, волосы на голове и усы — созвездиями, растительность на теле — травами и деревьями, зубы и кости — золотом и каменьями, костный мозг — жемчугом и нефритом, пот — дождем и росой» [6]. По преданию, могила Паньгу находится на Южном море протяженностью в триста ли. Люди, жившие в стране Паньгу, также все имели фамилию Паньгу. В книге Чжоу Ю «Сказание о сотворении мира» описывается эпизод с топором: «[Паньгу] вытянулся, толкая небо дальше ввысь, а землю вниз. Все же между небом и землей оставалась перемычка. Тогда он взял в левую руку долото, в правую руку — то- пор и принялся долбить долотом и рубить топором» [12]. Поскольку Паньгу обладал невероятной большой силой, в конечном итоге он смог разделить небо от земли, используя в руках топор и долото. В этом случае освоение навыков работы с двумя видами орудий труда китайским первочеловеком выступает в роли ориентира на практичность в повседневной жизни китайцев. В этом мифе отражается главная мысль о расчетливости, прагматичности и рациональности китайского народа в том, что все на этой земле создается через труд и работу. Следовательно, древние китайцы не размышляли над фантастическими таинствами богов и богинь, а делали упор на осуществление жизненно важных практических задач в настоящей жизни. В мифе Паньгу — это олицетворение упорства и трудолюбия в практической деятельности китайцев.
В мифологии Китая не акцентировали своего внимания на объяснении мироздания, как в мифах древней Греции. В китайских мифах отсутствуют понятия великолепного изящества форм и рельефов тела, идеальных фигур греческих богов и героев, поражающие воображение отвагой, решительностью и фантастической непредсказуемостью. В китайской мифологии отчетливо проявляется факт практичности китайского народа. Наглядный пример, богиня ремесла Чжи Нюй, которая обучала полезной деятельности людей, так и другие божества приучали всем необходимым видам искусства и важным ремеслам, которые имели практичную значимость в реальной жизни народа.
В религиозных мифических верованиях отражается трудолюбие китайского народа. Небо, земля, солнце, звезды, дождь и другие предметы имели одушевленный характер в ритуальной деятельности, в укладе жизни китайского народа. Ритуальные действия совершались для смягчения, снисхождения сил природы в просьбе людей получить богатый урожай. В дальнейшем появились такие анимистические культы у древних земледельцев Китая, как культ Неба ( 天崇拜 tiān chóngbài), Солнца ( 太阳崇拜 tàiyáng chóngbài) и Земли ( 土崇拜 tǔ chóngbài). Другими словами, именно прагматичный подход к возделыванию земли для получения максимальной выгоды от сельского хозяйства создал появление отдельного культа земледелия — Янь-ди ( 炎帝 yándì — божество солнце), который дарил людям тепло, свет и комфорт[подробнее см. 14]. Янь-ди первоначально представлялось как божество солнца, далее стало почитаться как покровитель земледелия. Согласно мифам, божество Янь-ди обучило китайский народ обработке и возделыванию земли, посеву зерен и жатве, уборке урожая.
В образе божества Шэнь-нун (神农shénnóng — божественный земледелец) акцентируется внимание на принципы обучения и приобщения народа к возделыванию земли. В дальнейшем божество Земли «Хоу ту» (后土hòutǔ) приобретает популярность из-за ее ценности в плодородии и последующего благополучия в жизни земледельца [14]. Следовательно, данный культ «Хоу ту» показывает действительную прагматичную сторону древних китайцев. В китайских мифах и культах отчетливо прослеживается направленность первоначальных интересов людей именно на прогресс в обществе, тем самым культы, связанные с вопросами мироздания, отодвигались на второй план. Не зная законов природы, являясь беспомощными и бессильными перед грозными природными явлениями, древние китайцы одушевляли, обожествляли эти силы. Анимистические космологические верования, боготворение сил и могущества природы, свойственные для протоки- тайцев (неолит), продолжили играть важную роль и в период Инь. Иньцы просили у верховного божества Шань-ди и у духов своего древнего рода воздействовать на силы неба, дождя, земли [14]. Племена пытались влиять на силы могущественной природы, снискать благоволение Небес — эти попытки находили выражение в совокупности обрядовых и ритуальных действий в почитании божеств Земли, Неба и других. Культ предков у китайцев тесно связан с древними погребальными обрядами. В неолитический период в Китае появилась мировоззренческая картина о загробном мире на основе найденных археологами захоронений. «С телом покойного находили разные предметы хозяйственной утвари, оружие, остатки пищи, что свидетельствовало о том, что древние китайцы верили в существование загробного мира. Погребальные обряды и ритуалы доказывают существование веры китайцев в возможность воскрешения, реинкарнации человека. Исследования в погребальных ритуалах важны для понимания социального уклада жизни древнекитайского народа. По замечанию синолога В. В. Малявина, "связь живых с умершими родичами была стержнем всего общественного уклада шанцев. Для людей этой эпохи мир мертвых был устроен точно так же, как мир живых: положение в нем каждого усопшего предка определялось его местом на родовом древе"» [8]. В. В. Малявин считал, что главный предок Шань-ди не принимал участие в делах народа в силу своей отдаленности от мира живых людей. В иньских религиозных верованиях люди осуществляли общение живых с умершими, приносили жертвоприношения и выполняли обряды и ритуалы. Таким образом, древние китайцы пытались через связь со сверхъестественными силами потустороннего мира «оказать влияние на ход событий в собственном живом мире» [14], стремились достичь практичного результата.
В учении Мо-зы ( 墨 子 mòzi) о «всеобщей любви и взаимной выгоде» ( 兼 爱 相 利 jiānàixiānglì) выявляется теоретическое обоснование принципа прагматизма китайского народа. Главная идея в учении заключалась в пользе для самого себя. Мо-зы считал, что «частный личный интерес, поглощенность собственными интересами либо интересами семьи, рода или государства — это принцип присутствия гармонии общества» [3].
Сунь-зы называл учение Мо-зы «путем занятых на работах людей» [7], что отражает интересы и идеи частных собственников, которые стремятся к «всеобщей выгоде» общества. В теории прагматизма Мо-зы считал, что если бы в «Поднебесной» все люди взаимно любили друг друга, то сильный не обижал слабого, богатые не притесняли бедных, знатные не хвастались перед незнатными, хитрые не обманывали глупых. В этой идее, он, включая принцип «уничтожить вред» и «развить выгоду», доказывает прагматичность и расчетливость своего учения, считая, что «за любящим самого человека, люди непременно последуют и полюбят его; а за приносящим выгоду, люди непременно последуют и принесут обязательно выгоду» [7]. Мо-зы указывал также, что дела человеколюбивого заключаются в намерении развивать в обществе только то, что приносит выгоду. Здесь под выгодой он имеет в виду материальные интересы всего китайского народа. Мо-зы выдвинул идею о «всеобщности», единстве намерений 志 (чжи zhì) и результате действий 公 (гунн gōng), полагая во всем этом справедливость.
Мо-зы считал, что справедливо и верно поступает лишь тот, кто приносит пользу обществу и людям. Общество на всех уровнях в Древнем Китае была пропитана идеей всеобщего блага. Главный принцип гласил «справедливость — это то, что полезно» [10]. Следовательно, что является истинным, то и считается полезным.
Л. С. Васильев считал, что рационализм является отличительной чертой китайцев в религиозной системе государства. «В отличие от других мировых религий с их мистикой и метафизикой, культом сверхъестественного и гигантской фигурой верховного божества идеологическая доктрина Китая выдвигала на передний план проблемы социальной политики и этики» [2], то есть, таким образом, решали практические задачи в жизни людей и стремились улучшить, упорядочить государственную систему в соответствии с представлениями древних мудрецов об идеальном устройстве общества. Прагматичность и рациональность китайцев можно увидеть и в их отношении к божествам, духам китайского пантеона, в которых ценилась и почиталась первоначально практическая помощь в организации действий по упорядочиванию социальной жизни китайского народа. Следовательно, древние китайцы выдвигали на первый план ценности настоящей жизни, акцент ставили на облагораживание общества, в чем отражается причина прагматичности китайцев.
Таким образом, формирование религиозных верований в Китае пришлось на ранний неолитический период. Возникновению этих верований вызвали следующие причины в виде коммуникативной, регулятивной, компенсаторной функций. Культы, связанные сотворением мира, не играли первостепенную роль, чем, те культы, которые имели отношение к социальному развитию в жизни китайцев. Древний человек, стараясь выявить влияние сверхъестественного на окружающий его мир, осуществлял попытки повернуть ход событий в благоприятное русло в своем мире. Религиозные верования, которые начали свое формирование в глубокой древности, основывались не на отвлечённых идеях, а на конкретных потребностях и стремлениях, возникавших в трудовой деятельности китайцев.
Список литературы Расчетливость, прагматичность в древних религиозных верованиях китайцев
- Васильев Л. С. Древнекитайский менталитет. URL: https://history.wikireading.ru/ 337764 (дата обращения: 19.04.2022). Текст: электронный.
- Васильев Л. С. Культы, религии, традиции в Китае. Москва: Восточная литература, 2001. 488 с. Текст: непосредственный.
- Великие мыслители Востока / перевод с английского Н. Барановой, А. Блейз, С. Зинина, А. Коваля, Я. Никитина. Москва: Крон-ресс, 1998. 400 с. Текст: непосредственный.
- Волопас и Ткачиха // Китайские народные сказки / составитель Б. Рифтин. Москва, 1972. С. 294-303.
- Дуайн О., Хатчинсон Н. Мифы и легенды народов мира. Китай. Москва: Мир книги, 2007. 120 с. Текст: непосредственный.
- Ежов В. В. Мифы народов мира / предисловие и комментарии И. О. Родина. Москва: ACT, 2004. 496 с. Текст: непосредственный.
- История китайской философии / перевод с китайского В. С. Таскина. Москва: Прогресс, 1989. 552 с. Текст: непосредственный.
- Королев К. Китайская мифология. Москва: Мидгард, 2007. 416 с. Текст: непосредственный.
- Сердюк Ю. О. Менталитет китайцев. URL: http://national-mentalities. ru/east/vostochnaya_i_yugovostochnaya_aziya/serdyuk_yu_o_mentalitet_kitajcev/ (дата обращения: 24.04.2022). Текст: электронный.
- Титаренко М. Л. Мо-цзы. Духовная культура Китая. Москва, 2006. 359 с. Текст: непосредственный.
- Токарев С. А. Сущность и происхождение магии // Исследования и материалы по вопросам первобытных религиозных верований: сборник. Москва, 1959. 622 с. Текст: непосредственный.
- Юань Кэ. Мифы древнего Китая / перевод с китайского Б. Л. Рифтина. Москва: Наука, 1987. 528 с. Текст: непосредственный.
- Юань Кэ. Мифы Древнего Китая. URL: https://royallib.com/read/ke_yuan/mifi_ drevnego_kitaya.html#0_(дата обращения: 04.03.2022). Текст: электронный.
- Янгутов Л. Е. О добуддийских религиозных верованиях Китая (часть 1) // Вестник Бурятского государственного университета. 2014. № 6(1). С. 12-13 с. Текст: непосредственный.