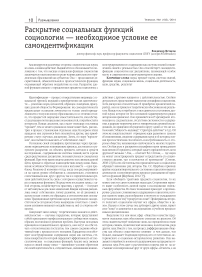Раскрытие социальных функций социологии — необходимое условие ее самоидентификации
Автор: Фетисов Владимир Яковлевич
Журнал: Телескоп: журнал социологических и маркетинговых исследований @teleskop
Рубрика: Размышления
Статья в выпуске: 1, 2014 года.
Бесплатный доступ
Анализируются различные стороны социологии как науки, их связь и взаимодействие. Выдвигается и обосновывается положение о том, что высшая социальная функция социологии заключается в выполнении ею роли теории деятельности определенных образований как субъектов. Она — продолжение дескриптивной, объяснительной и прогностической функции, оказывающей обратное воздействие на них. Раскрытие данной функции связано с определением предмета социологии, с конструированием ее содержания как системы знаний и выявлением связей с реальностью. Оно способствует самоидентификации социологии как дисциплины, занимающей особое место в современном социогуманитарном знании.
Наука, предмет науки, система знаний, функции науки, социальная жизнь, социальная деятельность, цели, средства, результат
Короткий адрес: https://sciup.org/142182056
IDR: 142182056
Текст научной статьи Раскрытие социальных функций социологии — необходимое условие ее самоидентификации
Идентификация — процесс отождествления индивида с социальной группой, ведущий к приобретению им идентичности — усвоению норм, ценностей, образцов поведения, присущих данной общности. Формирование же самоидентичности предполагает осознание личностью не только своей принадлежности к тому или иному образованию, но и отличия от него, что придает ей ощущение самостоятельности, способствует реализации потенциальных возможностей, потребностей и интересов. Всякая аналогия, как гласит немецкая пословица "хромает", тем не менее в указанном плане может быть рассмотрен и процесс становления отдельных наук. На первом этапе каждая из них стремится быть похожей на другие, уже приобретшие статус научных дисциплин. Затем, по мере "взросления", они пытаются выяснить и "собственное лицо".
Осознание своей специфики, протекающее через преодоление периодически возникающие кризисы, достигается в результате раскрытия их объекта, предмета, методов и средств исследования, содержания как системы знаний, места и роли среди родственных дисциплин, познавательных и социальных функций. При этом важно видеть единство всех звеньев данной цепи, прямые и обратные взаимодействия между ними. Выяснение особенностей каждого из них и всех вместе — одна проблема. Решение её возможно тогда, когда они рассматриваются на одном уровне обобщения и, следовательно, становятся сопоставимыми как друг с другом, так и с определенными срезами действительности, связь с которыми осуществляется через социальные функции. Посредством последних наука, с одной стороны, воздействует на практику, с другой, — получает от неё импульсы для своих изменений. Каждая научная дисциплина имеет собственную логику развития, но её динамику в целом нельзя понять не обращаясь к онтологическим основаниям. Традиционные претензии науки на внутреннюю самодостаточность сегодня все более вынуждены сочетаться с заметными усилиями внешнего воздействия на неё со стороны общества.
Связующее звено между теоретическим знанием и действительностью — научные парадигмы, которые представляют собой признанную профессиональным сообществом модель, образец постановки и решения проблем. Выступая исходным принципом познавательного процесса, они несут на себе печать онтологических постулатов, тем самым соединяя объективный мир с процессом его познания. Парадигмы способствуют конструированию содержания науки как системы, степень конкретности которой определяет эффективность её гносеологических и социальных функций. Анализ всех звеньев науки и связей между ними — важнейшее условие обретения ею своей идентичности и, следовательно, налаживания взаимо- действия с другими науками и с действительностью. Особую актуальность представляет выяснение специфики социологии. Хотя дискуссии относительно её приобрели хронический характер, они не привели к теоретически обоснованному результату. Между тем, потребность в нем диктуется состоянием данной науки, которое не без оснований характеризуется рядом авторов как кризисное. Оно проявляется в её чрезмерной атомизации и, следовательно, отсутствии системности в содержании, в разрыве теоретического и эмпирических уровней исследования, во вращении обсуждений в кругу одних и тех же антиномий ("общность-индивид", "структура-действие" и т.д.). Об этом же свидетельствуют отрицание идеи развития и замены её изменениями, сведение содержания науки к её истории, низкая прогностическая способность и востребованность со стороны общества, вызывающая озабоченность многих теоретиков. Особая роль в раскрытии специфики науки принадлежит выяснению её предмета, который задает определенность всем другим её звеньям. "…Там, — отмечает В.С. Степин, — где наука не может сконструировать предмет и представить его сущностными связями, там и кончаются её притязания" [Степин, 2008: 23]. На это обстоятельство применительно к социологии обращает внимание ряд авторов. Так, С.С. Щербина причину крайне неудовлетворительного состояния социологии видит в длительном и многовекторном процессе размывания её предмета и функций [Щербина, 2012: 33].
Если обобщить трактовки предмета социологии, то их можно свести к двум основным подходам. Сторонники первого видят особенность данной науки в исследовании отдельных сфер общества. Но такое понимание приходит в противоречие с реально сложившимся содержанием социологии, которое намного шире, разнообразнее и поэтому не укладывается в установленное ему "прокрустово ложе". Приверженцы второго полагают: социология изучает все сферы, общество в целом. Однако в этом случае она дублирует другие науки, теряет свое "лицо" и заменяется в исследованиях и учебном процессе иными дисциплинами.
Выделение тех или иных сфер общества в качестве предметов отдельных наук обусловлено степенью их зрелости. Об этом свидетельствует появление лишь на определенном этапе истории, скажем, политической экономии, политологии, ряда других наук. Вместе с тем, на процесс дифференциации общества как объекта существенное влияние и чем дальше, тем больше, оказывает тенденция перехода его от естественно-исторического к социально-историческому развитию. Она вызывает потребность в ином его разграничении на предметы отдельных наук. Речь идет о расчленении социума уже не на застывшие и изолированные друг от друга сферы -сегменты, а на различные формы жизнедеятельности, в которых на первый план выходят субъекты и их деятельность. Структуры и институты при этом выступают как ее предпосылки, условия и средства. Формы жизнедеятельности по сравнению со сферами более подвижны, динамичны и взаимопроникаемы.
Сказанное дает основание предположить: в качестве предмета социологии выступает социальная жизнь как особая форма жизнедеятельности, которая в качестве относительно самостоятельной области выделилась из общества значительно позднее политики и экономики. Её формирование происходит на определенном этапе развития общества, которому предшествует вначале синкретическое, а затем дифференцированное на различные сферы состояние. Социальная жизнь осуществляет их интеграцию, в результате которой на первый план выходят индивиды и различные объединения как социальные образования и субъекты деятельности. Поэтому, если прежде о степени развития общества судили по показателям экономики, то теперь таким критерием всё больше становится подход "от человека" как производный от социальной жизни. Последняя отличается от других форм жизнедеятельности по своим целям, способам и средствам их осуществления, непосредственно сопряженными с процессом сохранения, воспроизводства и развития индивидов. В этом ее основное отличие от экономики, политики, идеологии…, которые связаны с данным процессом, как правило, более опосредованно [Фетисов, 2007]. В силу своей сложности она до сих пор находится в стадии становления, что порождает множество проблем и противоречий в социологии как её теории. Последняя как бы продолжает открывать и осмысливать социальную жизнь в качестве своего предмета.
Для обоснования выдвинутого положения обратимся к истории социологии. Результат, как отмечал Гегель, не может быть раскрыт без рассмотрения ведущего к нему процесса. Последний же следует понимать как движение от абстрактного к конкретному, под которым в данном случае имеется в виду постижение социальной жизни в качестве предмета социологии. Логическое, как известно, далеко не всегда совпадает с историческим. Учитывая это обстоятельство, есть основание рассматривать наиболее крупные направления в эволюции социологии в качестве концепций, раскрывающих различные, но отдельные стороны социальной жизни. Попытки их интеграции на другой основе не привели к теоретически обоснованному результату. Отсюда проистекает разрыв между историей социологии, её современным содержанием и действительностью. Нельзя не согласиться с замечанием Н.В. Романовского о том, "…что картина движения социологии к её современному состоянию, изложенная в текстах по истории современной отечественной социологии, не завершена и может быть оспорена" [Романовский, 2013: 5]. Сказанное можно отнести не только к отечественной, но и к мировой социологии.
Попытаемся с указанной позиции дать краткую характеристику некоторым направлениям социологии. Прежде всего, речь идет, естественно, о её позитивистской версии. В ней социология отождествляется с естественными науками, стремясь быть такой же доказательной и общезначимой. Отсюда её тяготение к различным формам редукционизма. Акцент делается на методах познания общества, в качестве идеала которых выступает позитивные науки, уже доказавшие свою эффективность в изучении природы. Социология здесь обосновывается искусственно созданной пирамидой наук. Что касается её онтологического основания — предмета, то он ещё не осознается в силу своей незрелости. Наука опережает свой предмет и потому контовская социология справедливо оценивается как проект будущей науки, который ни Конту, ни его ближайшим преемникам так и не удалось осуществить. Здесь истоки обреченности социологии на постоянные поиски своего предмета и, следовательно, собственной идентичности. Речь идет, как отмечает Ю.Н. Давыдов, именно о поисках предмета, а не частных его уточнений [История тео- ретической социологии, 1995: 6].
Отождествление Контом общества как объекта и предмета социологии противоречило логике его познания, заключающейся в переходе от синкретического его представления в философии к всё более дифференцированному теоретическому видению. Позитивистская социология не смогла увидеть тот срез реальности, который выступал в качестве предмета новой науки. Поэтому её основная функция сводилась к дескриптивной — необходимой, но явно недостаточной для полноценного функционирования научной отрасли знания.
Следующая крупная веха — понимающая социология М.Ве-бера, которая может рассматриваться как определенное приближение к более адекватному видению социальной реальности. В отличие от позитивизма она исходит из принципиального разграничения природы и общества. Цель данной науки по Веберу в том, чтобы понять действия людей на основе выяснения их побудительных сил — смыслов, значений, ценностей и тем самым попытаться причинно объяснить их протекание и результаты. Задача социологии, следовательно, уже не ограничивается описанием явлений, но заключается в их понимании и объяснении. Другое дело, что понимающая социология, рассматривая действия индивидов, игнорировала макромир, без которого невозможно понять социальную жизнь общества. Последовательное выражение веберовская теория нашла в различных ветвях феноменологической социологии. Критикуя позитивизм за отчуждение и объективирование социальных явлений, её сторонники стремятся осмыслить мир через представления, мотивы и цели действующих индивидов. В результате социальная жизнь утрачивает объективный характер и сводится к представлениям об обществе, к их взаимодействию в сознании индивидов. Существенная черта этой социологии — конструктивизм. Если позитивизм игнорировал субъективные смыслы действующих индивидов, то феноменология нацелена на привнесение их в существующий мир, на их гиперболизацию за счет его объективности. Тем самым, она представляет собой уже другой по сравнению с позитивизмом, но также абстрактный взгляд на социальную реальность. Не случайно исследование социальных детерминант деятельности в её рамках подменяется изучением информационных процессов в ходе взаимодействия индивидов. При этом коммуникации возводятся в ранг предмета социологии.
Подход к реальности феноменологической социологии созвучен постмодернизму — особой теоретической и мировоззренческой трактовки действительности. Для её сторонника "… не существует внешняя, независимая от человека реальность, социальные процессы и феномены он будет рассматривать лишь сквозь призму собственных ощущений, представлений, личного опыта, что часто приводит к крайнему субъективизму, агностицизму, к тому, что Э. Гидденс называл "разрывами в познании", "фрагментацией знания" [Мнацаканян, 2008: 48].
Эволюция социологии, таким образом, представляет собой постоянную смену направлений, нередко переход от одной крайности к другой. Многие из них, стремясь преодолеть натурализм позитивизма, отрывают объективный мир от субъективного, личность от общества, институты от деятельности индивидов и общности. Сосредоточенность внимания на отдельных сторонах социальной жизни ведет не только к субъективизму в её трактовке, но и к фрагментации и атомизации знания. Между тем, социальная жизнь — целостное образование. Она специфическим образом проявляется на макро-, мезо— и микроуровнях, в поведении, отношениях, общении и деятельности людей. Поэтому её исследование предполагает анализ не только различных форм проявления, но и выявление как целостного феномена, сопряженного с экономикой и политикой и, вместе с тем, отличающегося от них. В противном случае социальная жизнь как предмет социологии ускользает из поля внимания социологов.
Несомненный интерес с точки зрения результата эволю- ции социологии, и, следовательно, выявления её специфики, представляет выдвигаемая рядом авторов идея метатеоретизирования. Так, например, Д.В. Иванов, анализируя с концептуальных позиций историю социологии, выделяет на каждом её этапе доминирующий тип теоретизирования. В современной социологии они сосуществуют, что обеспечивает метатеоретизирование как главную её особенность [Иванов, 2013]. Такое видение итогов эволюции социологии проясняет многие процессы, происходящие в её содержании в прошлом и настоящем, предохраняет от абсолютизации отдельных теорий. Однако при этом возникает ряд вопросов, связанных с определением предмета данной науки, с раскрытием специфики её содержания, познавательных и социальных функций. Предложенная концепция при всей её важности вряд ли способна дать ответы на эти вопросы. Автор пишет о возникновении в последние десятилетия такой ипостаси метатеоретизирования как концептуальные инновации на основе импорта в социологию эвристичных метафор ("сети", "потоки", "мобильности", "макдональдизации", "травмы", "перфоманса" [Иванов, 2013: 10]. Но не является ли столь широкое использование метафор выражением латентной неудовлетворенности научным метатеоретизированием, замыкающимся на самом себе, фиксирующим по отдельности те или иные состояния социума, но не способного их синтезировать и выработать рекомендации по их изменению? Представляется, что парадигма, которая позволяет теоретически интегрировать различные стороны действительности и тем самым высветить суть социальной жизни как предмета социологии — это деятельностный подход. Отдельные его "вспышки" происходили параллельно с формированием других направлений, но были вытеснены ими на периферию внимания социологов. Однако в последнее время он заметно выдвинулся на передний план. "Суть деятельно-активистского подхода: отказ от идеи диктата "естественно-исторических закономерностей" социального прогресса в пользу утверждения принципа "социально-исторического" процесса, не имеющего жестко заданного вектора, ибо решающую роль в современных обществах играют деятельные социальные субъекты…" [Ядов, 2009: 8].
Данный подход в той или иной форме представлен в трудах как зарубежных, так и отечественных авторов. Вместе с тем, он ещё не получил статус полноправной парадигмы, что, по словам Т. Куна, определяет зрелость науки. Следовательно, задача заключается в том, что бы придать ему таковой. Выскажем некоторые соображения по решению данной проблемы. Для понимания сути и причин возникновения социологии нельзя ограничиваться анализом взглядов Сен-Симона и Конта. Понять её становление можно, учитывая многие течения того времени, среди которых особая роль принадлежит марксизму, который сумел выразить дух наступающей эпохи вначале в философской форме, а затем осуществить ее более конкретный анализ. К. Маркс и Ф. Энгельс показали обусловленность появления рабочего класса объективной фазой развития производства, его место и роль в нем, вытекающие отсюда потребности и интересы, необходимость превращения из "клас-са-в-себе" в "класс-для-себя". Главное заключалось в обосновании того, что он должен делать для обеспечения своих жизненных потребностей и интересов. Следовательно, они дали характеристику пролетариата как нового образования, объективно вынужденного действовать определенным образом и поэтому нуждающегося в теоретическом обосновании своей деятельности. Революционная практика выдвинула потребность в особой теории, создание которой способствовало развертыванию организованной борьбы пролетариата за улучшение своего социального положения. Эта борьба в значительной степени изменила жизнь общества. Поэтому недалеки от истины те, кто говорит о том, что марксизм выполнил свою историческую миссию. Другое дело, что произошедшая при этом абсолютизация дуализма "пролетариат-буржуазия" привела к игнорированию иных слоев, статус и роль которых по мере развития производства и общества существенно меняется. Преобразовывались и сам пролетариат, и способы его борьбы за свои права, о чем, в частности, свидетельствует раскол его политических партий на революционные и реформистские. Однако подход, примененный к анализу рабочего класса как коллективного субъекта, можно считать социологическим, отвечающим духу новой эпохи. Поэтому он может быть с коррективами, учитывающими особенности времени, экстраполирован на современные социальные общности. Эта сторона марксизма оказалась отодвинутой на периферию внимания многих социологов. Между тем, она способствует выяснению сути данной науки. Деятельностный подход тесно связан с выдвинутой Марксом концепцией реального гуманизма как мировоззренческим идеалом, или базовой ценностной позицией. По мнению Н.И. Лапина, эту позицию "составили четыре ценности: человек, его достойная жизнь как высшая ценность; свобода, как неотъемлемый атрибут жизнедеятельности каждого человека; наука как способ поиска объективных путей осуществления достойной жизни и свободы человека; борьба за реализацию этих терминальных ценностей (конечных целей) в жизни всего человечества…" [Лапин, 2011: 172-173].
Деятельностная парадигма задается социологии социальной практикой — теми видами и способами деятельности, по-средствам которых можно обеспечить в современную эпоху процесс сохранения, воспроизводства и развития индивидов и общества. Последовательно проведенная в познании социальной реальности она способствует конструированию содержания социологии как системы знаний. Последняя обладает интегративными свойствами, важнейшее проявление которых — появление новой функции социологии как теории деятельности. Суть данной функции — обоснование целей социальных образований, способов и средств их осуществления, соотнесение результатов деятельности с целями и жизненными стратегиями, а последних — с процессом сохранения и развития индивидов и общностей как предельным объективным критерием. Выявление степени совпадения между результатом, целями и реальными процессами — основание для внесения корректив в постоянно изменяющуюся деятельность.
Данная функция тесно связана с предшествующими — дескриптивной, объяснительной, критической и прогностической. Она опирается на них, является их продолжением и завершением, оказывающим обратное воздействие. Поэтому отрыв этой функции от других ведет к её дискредитации. Известная мысль Маркса о том, что прежняя философия объясняла мир, а задача заключается в его изменении, вовсе не означает, что преобразование мира может осуществляться без его теоретического осмысления. Наоборот, сознательное изменение социума предполагает его глубокое и всестороннее познание. В данном отношении показателен эпизод из советской истории. Когда в начале 80-х годов встал вопрос о необходимости изменений общества, то оказалось, что оно, несмотря на огромное количество литературы, плохо изучено. Констатация данного факта была сделана Генеральным секретарем ЦК КПСС Ю.В. Андроповым, заявившим к удивлению многих, о том, что мы не знаем общества, в котором живем. Что касается конкретно социологии, то здесь уместно привести мысли одного из видных представителей отечественной социологии Н.Ф. Наумовой. "Наша социология, — отмечала она,— оказалась в драматическом состоянии, придя к переделке общества без теоретического осмысления того, каким оно было. А если ты не понимаешь, что переделывать, то никогда не поймешь, как его переделывать и во что — у тебя нет исходной позиции" [Наумова, 2008: 786]. Отсутствие конкретного знания советского общества — одна из причин постигших его потрясений. Как горбачевская перестройка, так и реформы 90-х годов носили спонтанный и ситуативный характер. Действия реформаторов направлялись не на реализацию теоретически обоснованных целей общест- ва, а на достижение эгоистических притязаний узкого слоя, чему соответствовали взятые им напрокат у Запада абстрактные теории.
Может показаться, что функция социологии как теории деятельности есть проявление перформативности знания. Однако, это не совсем так. Перформативность смещает фокус в теории познания с отражения на его орудийный, инструментальный характер. Если прежде, как отмечает В.И. Дудина, основной вопрос заключался в том, насколько знание точно репрезентирует реальность, то теперь акцент переносится на то, как оно производит реальность. "По отношению к перфома-тивам применимо не правило истинности/ложности, а правило успешности/ неуспешности, как и по отношению к действиям" [Дудина, 2012: 37] Социология как теория деятельности вовсе не ограничивает себя непосредственным переходом знания в практику, что характеризует перформативы. Её функции шире и глубже — она обосновывает деятельности тех или иных образований, опираясь при этом, как отмечалось, на описание, объяснение и прогнозирование социальных процессов. Следовательно, выполнять свою роль она может на основе содержания как системы знаний, а не отдельных фрагментов, которые действительно могут переходить в конкретные действия.
Выполнение социологией функции теории деятельности общества предполагает решение ряда задач. Одна из них — анализ его составляющих как социальных единиц, выявление степени их субъектности. Конкретно это означает их характеристику с точки зрения состояния потребностей, интересов, норм, ценностей, способности выдвигать цели, формировать жизненные стратегии и главное — готовности их осуществлять. В последнее время названные свойства сравнительно широко изучаются в российской социологии. Однако каждое из них анализируется обособленно от других, не доводится до своего завершения. Поэтому задача заключается в том, чтобы рассмотреть весь названный ряд свойств с точки зрения становления индивидов и общностей субъектами необходимой для их сохранения и развития деятельности. Структура социальных единиц может быть уподоблена клавишам пианино. Каждый общественный строй посредством своих институтов и структур "нажимает" на те или иные "клавиши". В советское время это были коллективистские установки и ценности, которые явно доминировали над личными потребностями и интересами. Современный российский социум характеризуется "потребностным редукционизмом", отодвинувшим на периферию гуманистические нормы и ценности.
На международных социологических форумах самыми популярными становятся понятия риска, неопределенности, турбулентности, кризиса, социальной незащищенности и уязвимости, депрессии и т.д. Отсюда выдвигается требование избавить теорию актора от телеологизма, ибо человек не в состоянии управлять жизнью, регулировать свою среду, следовательно, бесполезно задумывать цели и затем стремиться к их достижению. Современная личность живет в условиях "здесь и сейчас", вне будущего и, соответственно, вне целеполагания [Бронзино, 2012: 198]. Такая интерпретация современного мира вызывает возражение. Нельзя недооценивать указанные состояния социума, а тем более их отрицать. Однако вряд ли правомерна и их абсолютизация, бесконечные спекуляции на этой почве. Подобное одностороннее видение мира блокирует развитие социологии как теории сознательной деятельности и тем самым лишает возможности содействовать гуманизации социальной жизни. Между тем, роль социологии в данном плане высвечивается даже на уровне конкретных исследований. "В каждом своем исследовании, — отмечает Е.Омельченко, — мы сталкиваемся с множеством молчащих (немых), не слышащих (глухих), невидимых и слепых групп. Никто, кроме нас, не может (да и не захочет) помочь им заговорить, услышать, сделать их видимыми и зрячими" [Омельченко, 2008: 84].
Вторая задача, решение которой важно для выполнения со- циологией отмеченной выше функции, — выяснение необходимых для протекания определенной деятельности предпосылок, условий и средств. В теории, начиная с Гегеля, показано: не только цели определяют средства, но и последние оказывают воздействие на первые. Средство по Гегелю, есть даже нечто более высокое, чем цель, ибо "…суть любого дела не исчерпывается целью, а больше своим осуществлением [Гегель, 1939: 205]. Особую роль в жизнедеятельности общества играют средства производства и формы собственности на них. Не случайно и в современном мире высокую значимость сохраняют процессы национализации и приватизации. Вместе с тем, все большее признание получает необходимость одновременного существования качественно различных форм собственности. Поэтому не случайно внимание акцентируется на процессах социализации, означающих использование любых форм собственности в интересах общества, чему служит прогрессивная шкала налогообложения, ряд других социальных мер.
Необходимое условие развертывания самостоятельной деятельности социальных единиц — наличие определенной степени свободы, которую при всей её важности нельзя трактовать как самоцель, превращать из инструментальной в терминальную ценность. Ныне, может быть, более актуально, чем прежде, различение двух её сторон: "свобода от чего" и "свобода для чего", ибо, как показывают события в стране и мире, явное господство первой над второй ведет к разрушению социальных связей.
Социологический подход к анализу рассматриваемой проблемы заключается в том, что в отличие от философии здесь объективный фактор дифференцируется на предпосылки, условия и средства. Каждая из этих составляющих играет свою роль в сознательной деятельности людей. Критерием прогрессивности любых преобразований общества является то, насколько изменение предпосылок, условий и средств способствует повышению эффективности деятельности на разных уровнях. В этом плане российские реформы заслуживают особого анализа.
И, наконец, третья основная задача социологии — раскрытие содержания и логики развития социальной деятельности на макро-, мезо— и микроуровнях. Деятельность нельзя сводить к действию — простейшему единичному акту. Она — высшая форма отношений человека к миру и к самому себе, представляющая последовательность многих действий, направленных на достижение как ближайших, так и отдаленных целей.
Обратимся в данном плане к некоторым положениям классического наследия. Так, в марксизме были сформулированы положения о том, что история есть не что иное, как деятельность преследующих свои цели людей, о её целенаправленности как родовом качестве, о соотношении индивидуальной и родовой жизни человека.
Весомый вклад в социологическую теорию деятельности, как известно, внес М. Вебер своей концепцией идеальных типов действий [Вебер, 1990: 628-630]. Высший тип, критерий всех остальных: ценностно-рационального, аффективного и традиционного — целерациональное действие. Целерацио-нальность по Веберу, как отмечает П.П. Гайденко, лишь методологическая, а не "онтологическая" установка социологии, это средство анализа действительности, а не характеристика её самой. Вместе с тем, нельзя отделаться от того обстоятельства, что всё-таки идеальная конструкция извлечена из эмпирической действительности [Гайденко, Давыдов, 1991: 46]. Благодаря этой двойственности теория идеальных типов действий не потеряла своего значения и при характеристике современного общества. Она помогает выявить соотношение в нем различных типов деятельности не только в пространстве, но и во времени, обосновывая целерациональную деятельность как результат исторической эволюции.
Вместе с тем, следует отметить: выделенные Вебером типы действий носят формальный характер. Их социальная ней- тральность проявляется в том, что они могут как содействовать, так и препятствовать гуманизации жизни, процессам сохранения и развития индивидов и общностей. Если брать крупные исторические события, в которых наиболее ярко проявляется социальное содержание различных типов деятельности, то наглядный пример — деятельность фашистской Германии. Она носила ярко выраженный целерациональный характер: были четко поставлены цели, с немецкой пунктуальностью разработаны планы по их реализации, приведены в действие огромные людские ресурсы, материальные и технические средства. Однако результаты развязанной ею Второй мировой войны, нападения на СССР, оказались прямо противоположны поставленным целям. Не только не были порабощены страны и народы, хотя они, особенно Советская страна, понесли тяжелейшие потери, но прекратила существовать Германия как фашистское государство, а её высшее руководство по решению Международного трибунала получило заслуженную кару. Следовательно, как бы по форме не протекала целерациональная деятельность тех или иных партий и государств, но если она противоречит базовым интересам и ценностям народов, то вызывает их сопротивление и в конечном счете обречена на провал. Данное обстоятельство часто игнорируется, когда ведутся многочисленные дискуссии о Великой Отечественной войне 1941 — 1945 гг.
Говорить о целерациональной деятельности как высшей форме активности можно в том случае, если иметь в виду её гуманистическую направленность, которая задается определенными ценностями. Представления о мире и познании, принимаемые ценности оказываются исторически и культурно обусловленными. Поэтому рациональность, понятая не узко формально, а в более широком смысле оказывается культурным феноменом [Лекторский, 2012: 26]. Существуют многие интерпретации рациональности как фундаментального свойства социальных систем и характеристики деятельности [Труфанов, 2013]. Представляется, что они выражают ее различные аспекты. Основные из них сводятся к тому, что рациональность представляет собой, во-первых, способность к целеполаганию, во-вторых, объективированную логическую связь цели деятельности, средств и результата и, в-третьих, характеризует меру эффективности деятельности.
Социально ориентированная целерациональная деятельность диверсифицируется на разных уровнях. Степень её проявления на каждом из них может быть раскрыта в результате конкретных исследований. Теоретическое обоснование различных её видов и уровней связана с выяснением соотношения между сущим и должным. В социогуманитарных дисциплинах всегда имеет место определенное соотношение между ними, нарушение которого деформирует науку. Если должное отрывается от сущего и абсолютизируется — мы имеем дело с утопией. Когда же наоборот, сущее вытесняет должное, которое трансформируется в постановку целей, раскрытие способов и средств их реализации, то наука превращается в констатацию фактов, в набор статистических материалов. Одно из проявлений кризиса социологии — абсолютизация сущего и игнорирование должного. По сути это обстоятельство отмечается рядом социологов, когда они упрекают современную социологию в недостаточной утопичности (Дж. Александер, Э. Гидденс и др.). Н.В. Романовский, анализируя работу Гетеборгского конгресса МСА, констатирует: "…с развенчанием социалистической и коммунистической альтернативы социальные науки стали ощущать дефицит утопии" [Романовский, 2013: 80]. Определенное отношение к данной проблеме, как представляется, имеет и известный принцип Ч. Миллса, именуемый "социологическим воображением".
Социально ориентированная деятельность общества интегрирует его различные стороны, тем самым задавая социологии как её теории системный характер. Она объединяет объективные и субъективные миры, сопрягает социальную структу- ру индивидов и общностей с их деятельностью, последнюю с её предпосылками, условиями и средствами. Через неё осуществляется связь времен: с одной стороны цели обусловлены сформированными в прошлом потребностями, интересами и ценностями, с другой, — они предопределяют деятельность людей в настоящем и будущем.
Протекание рациональной деятельности общества во многом зависит от степени его социального расслоения. Чем более расколото общество, тем меньше у него возможностей ставить и увязывать между собой ближайшие и стратегические цели, осуществлять их реализацию. В литературе справедливо подвергается критике российское руководство за неспособность создать сбалансированную стратегию действий на несколько лет вперед, за неумение состыковать между собой различные отрасли экономики, а последнее с развитием науки, образования и культуры. Часто стратегии — это декларации, а не руководство к действию. Стратегии регионов и федеральных округов почти не увязаны друг с другом. Разнонаправленность и противоречивость многочисленных проектов, неэффективность государственного управления, запредельная коррупция, неработающие законы — всё это негативно влияет на процесс рационализации деятельности как "верхов", так и основной массы населения. "Общество, лишившись рычагов влияния на власть, — отмечает В.В. Петухов, характеризуя реформы, — постепенно становилось всё более пассивным и инертным, граждане замыкались на решении своих личных проблем. А власть, лишенная эффективного влияния снизу, всё глубже погрязала в коррупции, бюрократической неэффективности" [Двадцать лет реформ…, 2011: с.12].
При социальной поляризации "верхи", как правило, ставят перед обществом задачи, выражающие главным образом их интересы. Для остальной же массы рисуются перспективы, далекие от реального воплощения. Градиент цели, характеризующий возрастание мотивации по мере приближения к цели, здесь "не работает", ибо последние заведомо утопичны и их воздействие на активность людей равно нулю. Социологические исследования, проведенные в течение длительного времени, показали: значительная часть россиян переживает чувства несправедливости относительно всего происходящего, беспомощности и невозможности повлиять на текущие процессы, стыда за состояние страны [Двадцать лет реформ…, 2011: с.5576]. Если к тому же учесть отсутствие какой-либо общей идеи, избыточную регламентацию действий индивидов, малого и среднего бизнеса, чрезмерную бюрократизацию и формализацию различных форм труда, борьбу за выживание "внизу" и "синдром временщика", "эмоциональное выгорание" в верхних слоях, то говорить о рационализации деятельности в российском обществе весьма проблематично. Сегодня становится все более очевидным тот факт, что "бедная реализация богатого потенциала России" во многом определяется низкой степенью рациональности деятельности на всех уровнях.
Одна из закономерностей развития целерациональной деятельности общества состоит в том, что создание тех или иных отраслей экономики, различных структур и институтов из самоцелей на одном этапе превращаются в предпосылки, условия и средства жизнедеятельности на другом. Если такие трансформации не происходят, то общество начинает деформироваться. Индустриализация страны в советское время была крайне важна и необходима. Однако после её завершения в силу ряда причин она не стала превращаться в средство развития отраслей, непосредственно направленных на удовлетворение потребностей населения. Результаты такой политики известны. Другой пример — Военно-промышленный комплекс. Для обеспечения безопасности страны необходимо определенное для каждого времени его состояние. Когда же наращивание ВПК переходит разумную черту, оно неизбежно сказывается на жизненном уровне людей со всеми вытекающими отсюда последствиями. Как известно, данное обстоятельство было сознательно использовано США против СССР с целью дискредитации и разрушения советского строя. Аналогичные процессы протекают и в политике, когда она из средства решения экономических и социальных проблем общества становится самодовлеющей деятельностью властвующей элиты, направленной на удержание власти любой ценой.
Существенная черта целерациональной деятельности общества — соблюдение преемственности между прошлым и настоящим. Оно приобретает особую актуальность в период радикальных преобразований. Реформы в России проходят под лозунгом тотального отрицания достигнутого в советское время: промышленного производства, сельского хозяйства, системы образования, науки и культуры. Нарушение данного принципа — одна из причин неутешительных результатов реформирования страны. Они выражаются в потере 70% сельхозугодий, ликвидации всей прежней аграрной инфраструктуры, в разрушении более 300 000 предприятий, ликвидации многих жизненно важных для общества отраслей. В итоге утрачивается продовольственная и технологическая безопасность страны. Другую картину мы видим в Китае, где критическое отношение к прошлому не превратилось в самоцель, отвлекающую от решения насущных проблем. Во многом благодаря преемственности, прагматизму и творческому подходу руководства удалось "уловить" тенденции современности и реализовать их в соответствии со спецификой страны.
На каждом крупном этапе эволюции общества, одна из форм жизнедеятельности господствует над другими, что отражается на содержании и характере деятельности и, следовательно, на востребованности соответствующих наук. Так, рыночный фундаментализм современного общества, явное доминирование экономики над социальной сферой — одна из причин, по справедливому мнению Э. Гидденса, снижения интереса к социологии [Гидденс, 2007].
За абсолютизацией рыночной экономики, политики, идеологии, религии скрываются интересы отдельных групп и слоев общества. Что касается социальной жизни, то в ней выражаются интересы большинства населения, поэтому превращение различных сфер и институтов из самодовлеющих величин в факторы социальной жизни способствует консолидации социума.
Превращение социальной жизни в доминанту по отношению к другим формам жизнедеятельности — одна из основных тенденций современности. Ее реализация носит сложный, противоречивый и нелинейный характер, о чем свидетельствуют колебания в разных странах то в сторону социальных программ, то в защиту интересов крупных собственников и бизнеса. "Всякие изменения социума, — отмечают известные экономисты Р.С. Гринберг и А.Я. Рубинштейн, — подчиняются общей телеологической закономерности, объединяющей в себе необходимость и случайность, энергетику отрицательной обратной связи, обслуживающей стремление системы к равновесию, и положительной обратной связи, отвечающей за вектор развития общества и его "прыжки на новые уровни сложности"" [Теория и методология исследований…, 2005: с.17].
Процесс социализации общества, сознательная направленность усилий на всё более широкие слои, вызывает необходимость развития его целенаправленной деятельности. Становление капитализма обусловило появление одних её форм, что нашло выражение в менеджменте как совокупности принципов, методов и средств управления производством и сбытом с целью повышения их эффективности и увеличения прибыли. Возникновение же социализма при всех его изъянах и недостатках породило потребность в иной, социально ориентированной деятельности. Она реализовывалась в плановом ведении хозяйства, ориентирующемся на интересы не узких слоев, а общества в целом. Благодаря этому удалось в кратчайшие сроки решить многие экономические и социальные проблемы. Другое дело, что рациональность на макроуровне не была под- креплена соответствующим образом на "нижних этажах" в силу экстремальных условий существования страны, бюрократизации социума, ряда других причин. Поэтому вряд ли правомерно имеющее место редуцирование социального управления к менеджменту, трактовка, скажем, Сталина как "эффективного менеджера". Подчеркнем: речь идет не о преуменьшении, а тем более отрицании роли менеджмента в экономике, а об ограничении сферы его применения, о неоправданной экстраполяции его принципов на социальную жизнь общества.
Усложнение связей, присущее эволюции социальной целенаправленной деятельности, которая сегодня "стучится в двери" различных социально— экономических систем, связывает социологию с теорией социального управления. Поэтому представляется не случайным отмеченный Ж.Т. Тощенко факт: социология из сферы научного знания и эмпирических прикладных исследований "шагнула" в сферу управления (Тощен-ко, 2013: 3).
Осознание социологии в качестве теории социальной жизни и её стержня — различных форм деятельности — основа конструирования её содержания как системы знаний. Деятельность индивидов и общностей как акторов интегрирует различные стороны общества, превращает их в свои предпосылки, условия и средства. Тем самым, они включаются в новые связи и отношения, которые и выражаются социологией. По мере развития целерациональной деятельности общества возрастает количество вовлеченных в её орбиту явлений, что требует повышения уровня их теоретического обобщения. Конкретно это выражается в необходимости перехода от трактовки социальной жизни как обособленного сегмента общества к более широкому её пониманию — области, пронизывающей все другие сферы, в том числе экономику и политику. Социология как система знаний имеет под собой определенные онтологические основания.
Системность науки — одно из важнейших её свойств. В качестве элементов науки выступают отдельные теории, в которых проявляются её системные свойства. На этапе становления науки отдельные теории доминируют над целым. Здесь существует полная свобода в выдвижении различных концепций и гипотез, что крайне важно для развития науки. Другая, противоположная ситуация — наука как система держит в строгих рамках свои теории, отвергает с ходу многие идеи. Наиболее оптимальное — паритетное соотношение между системой и элементами, когда отдельные теории обладают автономией и вместе с тем находятся в поле науки. Возникает вопрос о причинах пребывания отдельных теорий в рамках науки, о том, почему нельзя их отпустить в "свободное плавание". Действительно, наука как система ограничивает свои теории. Однако тем самым она и предохраняет их от абсолютизации, своего рода солипсизма, от стремления к собственной универсализации. Более того, наука как система придает своим теориям специфичность, задает определенную направленность в их развитии. Без этих ограничений и вместе с тем "инъекций", вырванные из контекста науки теории теряют свою эвристичность, вырождаются в абстрактные доктрины, дискредитирующие сами себя. Нечто подобное происходит, например, с теорией девиантности, когда она покидает предметное поле социологии. Абсолютизация её ведет к превращению нормы в отклонение, а последнего — в норму. Полный же релятивизм и вытекающая из него вседозволенность, разрушают культуру — основу социальной жизни. Так, в частности, анализ нетрадиционной сексуальности показывает: "…культурный релятивизм ведет к тому, что "частное" возводится в ранг "универсального", частные интересы "группы меньшинства" подверствываются под "универсальные права человека", в результате чего конструкция "универсальных прав" рушится на корню" (Щелкин, 2013: 135).
Конструирование социологии как системы способствует наиболее полному раскрытию социальной жизни общества. Но оно может быть осуществлено в результате последователь- ной реализации деятельностной парадигмы. Другие подходы (натурализм, интерпретативизм, структурализм, функционализм и т.д.) не в состоянии обеспечить интеграцию различных теорий в единую систему. Поэтому предпринимаемые на их основе усилия по решению проблемы когерентности — установления связей и взаимодействия между отдельными теориями — не увенчались успехом. Появление многих специальных теорий — явление позитивное. Однако их невозможно обобщить, привести в систему. "Российская социология в нынешнем описательном виде без "нацеленности" на создание общей социологической социологии, выявление закономерностей, устойчивых зависимостей не дает желаемого прогноза социальных событий, а только частные рецепты или рекомендации на уровне обыденного знания" [Князев, 2013: 151].
Высшая социальная функция социологии, как отмечалось, — выполнение роли теории социальной деятельности, соответствующих отношений и коммуникаций, в результате реализации которой происходит процесс их рационализации. Данная функция, по нашему мнению, — главный критерий определения степени "социологичности" различных доктрин. Многочисленные социальные учения, существовавшие до середины ХIХ в., лишь описывали реальность. По разным причинам они не могли нести в себе заряд целенаправленного её изменения. Поэтому, начиная с Платона, появляются утопические концепции, проходящие "красной нитью" через всю историю социальной мысли. Они как бы компенсируют односторонность дескриптивных теорий. Новизна и специфичность социологии, как представляется, заключается в её потенциальной способности соединить сущее и должное — эти две оторванные друг от друга в прошлом ипостаси социальной реальности. Поэтому она и могла появиться лишь на определенном этапе развития — в эпоху модерна.
Что касается современности, то народы, отставшие в своем развитии, скорее изучаются этнографией, антропологией, культурологией, чем социологией, ибо не имеют в силу своей архаичности и традиционности развитых структур социальной жизни, на которые ориентируется социология. Однако и в продвинутых странах социальная жизнь — величина переменная. Она то расширяет свой диапазон, то, подобно "шагреневой коже", сокращается, что определяет меру востребованности социологии. Потребность в ней возникает на основе, во-первых, достижения обществом и его основными слоями определенной степени зрелости, и, во-вторых, создания соответствующих предпосылок, условий и средств. Взаимодействие между этими двумя сторонами порождает в силу их противоречивости и неравномерности развития социальные проблемы и, следовательно, востребованность социологии как теории их решения. Реализация же данной роли предполагает доведение социологии до теории социальной деятельности, отношений и форм общения. Лишь "дозрев" до выполнения этой функции, социология начинает эффективно взаимодействовать с практикой. Поэтому отдавая должное отечественной социологии и солидаризируясь в данном отношении с Ж.Т. Тощенко [Тощен-ко, 2013] , все же следует отметить: большинство исследований в её рамках находится на уровне описаний и объяснений, но редко "дотягивается" до прогнозов и обоснования вытекающих из "нарисованной картины" действий. (Естественно, речь идет о тех исследованиях, которые по своему содержанию и масштабу требуют такой завершенности).
Многие социологи, если воспользоваться выражением В.М. Розина, "роют свои траншеи, не поднимая головы", не общаясь и не взаимодействуя с коллегами, не видя за разными поворотами и зигзагами общей направленности динамики современного социума. Однако человек, не знающий куда идет, как давно замечено, может зайти очень далеко. Безбрежный плюрализм ведет к прогрессирующей фрагментации российского профессионального сообщества, в результате чего происходит ослабление и без того невеликих сил. Ситуация у филосо- фов, историков и психологов, при всех их проблемах, все же выглядит лучше [Радаев, 2013: 17].
"Застревание" социологии на ступени дескриптивности ограничивает её эпистемологические возможности. В последовательном ряду её функций, о котором шла речь, каждая из последующих функций не только опирается на предыдущие, но и оказывает на них свое воздействие. Функция социологии как теории деятельности предъявляет новые, более высокие требования к прогнозированию, критическому анализу социальной реальности, к её объяснению и описанию. Попытки преодолеть ограниченность дескриптивности социологии посредством её "всеядности", обращения к описанию самых разных, нередко малозначимых и случайных явлений, не решают проблему. В.В. Радаев видит спасение российской социологии от раннего увядания во включении её в мировую социологию, справедливо отмечая при этом, что и там дела обстоят не лучшим образом [Радаев, 2013: 17]. Нельзя не согласиться с данным положением. Тем не менее, главная задача социологии видится в том, чтобы повернуться "лицом" к современности, к её основным тенденциям, пробивающим себе дорогу сквозь различные социально-экономические системы. Прежде всего, речь идет о соотношении процессов сохранения и развития общества, которые были в истории, как правило, оторваны друг от друга. Поступательное движение общества осуществлялось за счет его сохранения, что особенно ярко проявилось в истории России (см., например, петровские реформы, индустриализация страны в 20-30-ые годы ХХ в.). В настоящее время развитие социума всё больше превращается в фактор его сохранения. Советское общество в 70-80-ые годы утратило свою динамичность, что явилось основной причиной его крушения. Не решаемость многих проблем современной России, наличие в ней социальной напряженности и конфликтов, в том числе этнических, обилие преступлений, катастроф и аварий — все это в значительной мере результат стагнации общества.
В современную эпоху развитие общества носит не экстенсивный как прежде, а интенсивный характер, осуществляющийся не иначе, как через постоянные инновации и модернизации. Последние вызывают потребность в качественном повышении степени рациональности деятельности на всех уровнях. По отношению к обществу в целом это выражается в том, что его императивом становится социально ориентированная целерациональная деятельность. Только она может органично соединить указанные выше процессы, способствовать сочетанию и координации деятельности государства, бизнеса и институтов гражданского общества. Представляется, что осуществление такой деятельности лежит на путях конвергенции различных социально-экономических систем. Как показывает исторический опыт, ни капитализм, ни социализм в их сложившихся в ХХ столетии формах не смогли синтезировать процессы сохранения и развития общества.
Таким образом, выявление и анализ функций социологии как теории социальной деятельности позволяет полнее и конкретнее очертить все её звенья. Особое значение среди них приобретает определение её предмета. Онтологическое его обоснование, идущее от социальной реальности, "пропущенное" через её различные звенья и "обогащенное" ими, способствует приобретению ею самостоятельности, плодотворному взаимодействию с другими дисциплинами и с практикой.
Обретение социологией самоидентичности предохраняет её от многих подстерегающих опасностей, на которые обращается внимание в литературе. Речь идет об угрозе её превращения, во-первых, в сугубо академическую социологию, имеющую весьма косвенное соприкосновение с реальностью, во-вторых, в коммерческую социологию, в-третьих, в "сервильную социологию", главная роль которой состоит в удовлетворении потребностей влиятельных агентов и, наконец, в квазисоциологию [Рыкун, Южанинов, 2008: 100]. Самоидентификация социологии означает также приобретение ею иммунитета по отношению ко многим модным тенденциям, увлеченность которыми уводит ее от решения действительных проблем. "Модность — хотя и не единственный, но все же один из существенных факторов наблюдаемого в настоящее время снижения общественного авторитета, признания и престижа социологии [Гофман, 2013: 28].
Следовательно, функция социологии по отношению к российскому обществу заключается не только в объективном и всестороннем его анализе, но и в обосновании путей и способов дальнейшего развития. Реализация этой функции может быть обеспечена в результате усилий всего социологического сообщества, что предполагает достижение определенного единства взглядов по основным проблемам общественного развития. Особое значение приобретает его способность выявлять и конструировать социальные проблемы, обращать внимание общества и политиков на сложные ситуации, вызывать обеспокоенность и осознание необходимости принятия практических мер по их изменению [Верминенко, 2013]. При этом важно учитывать сложившуюся в обществе и в отдельных его регионах субординацию социальных проблем, не подменять первостепенные малозначащими, что нередко происходит на практике.
Перевод в практическое русло теоретически обоснованного курса динамики общества, как представляется, невозможен без обращения к социологическому знанию не только политического руководства и элиты, но и более широких слоев. Это обращение предполагает развитие социологического просвещения и образования, которые в настоящее время далеки от требований времени.
Список литературы Раскрытие социальных функций социологии — необходимое условие ее самоидентификации
- Бронзино Л.Ю. Наблюдение за наблюдениями: субъективные заметки участника 10 конференции Европейской социологической ассоциации//Журнал социологии и социальной антропологии. 2012. Т.XV № 3
- Вебер М. Основные социологические понятия//Вебер М. Избранные произведения: Пер. с нем. -М., 1990.
- Верминенко Ю.В. Конструирование социальных проблем в современном российском обществе. -СПб., 2012.
- Гайденко П.П., Давыдов Ю.Н. История и рациональность: Социология М. Вебера и веберовский ренессанс. -М., 1991.
- Гегель Г. Наука логики. Соч., т.6. -М., 1939.
- Гидденс Э. Призыв к оружию//Социол. исслед. 2007. №9.
- Гофман А.Б. О модах в современной теоретической социологии//Социолог, исслед. 2013. № 10
- Двадцать лет реформ: глазами россиян: опыт многолетних социологических замеров./Под ред. М.К. Горшкова, Р. Крумма, В.В. Петухова. М.: Весь мир, 2011.
- Дудина В.И. Эпистемологическая реконфигурация социального знания: от репрезентации к перформативности//Журнал социологии и социальной антропологии. 2012. Т XI. № 3.
- Иванов Д.В. Этапы эволюции социологии и доминантные типы теоретизирования//Социолог исслед. 2013. № 9.
- История теоретической социологии. Т. 1 От Платона до Канта (Предыстория социологии и первые программы науки об обществе). -М.; Наука. 1995.
- Князев В.И. Есть ли новые идеи в социологии?//Социол. исслед. 2013. №10.
- Лапин Н.И. Самокритика возникновения марксизма (размышления в связи с выходом книги Т.И. Ойзермана "Возникновение марксизма")//Вопросы философии. 2011. № 12.
- Лекторский В.А. Рациональность как ценность культуры//Вопросы философии. 2012. № 5.
- "Мне трижды повезло". Интервью с Н.Ф. Наумовой//Социологическая теория: история, современность, перспективы. Альманах журнала "Социологическое обозрение". СПб., 2008.
- Мнацаканян М.О. Модерн и постмодерн в современной социологии//Социолог исслед. 2008. № 12.
- Омельченко Е. Для кого и для чего сегодня существует социология в России//Общественная роль социологии/Под ред. П. Романова и Е. Ярской-Смирновой. -М., 2008.
- Радаев В.В. Российская социология в поисках своей идентичности//Социолог исслед. 2013. № 7.
- Романовский Н.В. Куда идет "SOCIOLOGY ON THE MOVE"?//Социолог исслед. 2013. № 5.
- Романовский Н.В. Эволюция теоретической мысли в социологии. Комментарии к проблеме//Социолог. исслед. 2013. №8.
- Рыкун А., Южанинов К. Для кого и для чего сегодня существует социология в России?//Общественная роль социологии. М., 2008.
- Степин В.С. Эволюция этоса науки: от классической к постне-классической рациональности//Этос науки/РАН. Ин философии; Институт естествознания и техники. Отк. Ред. Л.П. Киященко и Е.З. Мирская. -М. 2008.
- Теория и методология исследований социальных проблем/Отв. ред. РС. Гринберг, Т.В. Чубарова. М.: Наука, 2005.
- Тощенко Ж.Т. Новые тенденции в развитии российской социологии//Социолог, исслед. 2013. № 5.
- Труфанов Д.О. Рациональность как социологическая проблема. Постнеклассический (универсумный) подход//Социол. исслед. 2013. №4.
- Фетисов В.Я. Социальная жизнь как предмет исследования социологии//Социолог. исслед. 2007. № 6.
- Щелкин А.Г. Нетрадиционная сексуальность (опыт социологического анализа)//Социолог исслед. 2013. № 6.
- Щербина В.В. Существует ли сегодня наука социология?//Социолог. исслед. 2012. № 8.
- Ядов В.А. Современная теоретическая социология как концептуальная база исследования российских трансформаций: Курс лекций для студентов магистратуры по социологии. -СПб.: Интерсоцис. 2009.