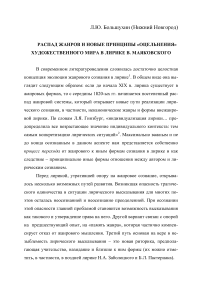Распад жанров и новые принципы «оцельнения» художественного мира в лирике В. Маяковского
Автор: Большухин Леонид Юрьевич
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Статья в выпуске: 2 (7), 2008 года.
Бесплатный доступ
Лирика, жанр, оцельнение, маяковский
Короткий адрес: https://sciup.org/14914140
IDR: 14914140
Текст статьи Распад жанров и новые принципы «оцельнения» художественного мира в лирике В. Маяковского
Перед лирикой, утратившей опору на жанровое сознание, открывалось несколько возможных путей развития. Возникшая опасность трагического одиночества в ситуации лирического высказывания для многих поэтов осталась неосознанной и неосознанно преодоленной. При осознании этой опасности главной проблемой становится возможность высказывания как такового и утверждение права на него. Другой вариант связан с опорой на предшествующий опыт, на «память жанра», которая частично компенсирует отказ от жанрового мышления. Третий путь основан на вере в незыблемость лирического высказывания – это новая риторика, предполагающая учительство, назидание и близкие к ним формы (их можно отметить, в частности, в поздней лирике Н.А. Заболоцкого и Б.Л. Пастернака).
Очевидно, что процесс перехода к внежанровому сознанию может быть рассмотрен как трагический, поскольку он связан с коренным изменением отношений между автором и героем в пространстве лирического текста. Кардинальное отличие, описывающее новую ситуацию, обусловлено тем, что предшествующий опыт для внежанровой лирики перестает быть доминирующим. Разумеется, это не означает полной утраты связи с традицией, но определяет иной принцип взаимодействия с ней, поскольку именно жанры являются «хранителями исторической памяти»3. По мысли В.А. Грехнева, в рамках жанра координаты мира определяются «соотношением устойчивого и подвижного, общего и индивидуального в потоке литературного развития»4. Согласно его концепции, «сам по себе жанр внеиндивидуален, но в нем отстаиваются наслоения конкретных писательских открытий, напластования крупных художественных реформ. А традиционное в ходе развития жанра постоянно выступает в роли опоры, отталкиваясь от которой, реформаторы жанра отклоняют его в сторону инди-видуального»5. Распад сложившейся жанровой системы приводит к новому способу организации художественного мира, в частности, к поиску тех законов и форм его созидания, где поэт имеет дело с неосвоенной действительностью. Внежанровая лирика ставит поэта перед необходимостью определить свойства времени и пространства, заново создать те «пределы художественного в и дения»6, которые прежде были заданы рамками жанра.
Представление о жанрах как о «мировоззренчески насыщенных типах структур»7 и «неотъемлемых категориях художественного мышле-ния»8 предполагает, что жанр является как формой воплощения авторского сознания, так и освоенным миром, в котором заранее очерчены горизонты бытия и даны некие предответы на принципиальные вопросы бытийного характера. Соответственно, обращаясь к определенной жанровой структуре, автор заведомо предполагает, каким будет созданный им мир. По мере развития других форм лирики и освобождения лирического сознания от канонов жанра обнаруживается следующая закономерность: лирическое «я» обретает большую свободу, для него становятся тесны рамки жанрового сознания (как предельное воплощение этой тенденции может быть понята формула В.В. Маяковского «я чувствую, я для меня мало»9), и строительство поэтического мира приходится начинать в буквальном смысле «с нуля». Характерно в этом плане и признание Анны Ахматовой, приведенное в «Записках» Лидии Чуковской: «Я решилась спросить у нее: сейчас, после стольких лет работы, когда она пишет новое, – чувствует ли она за собой свою вооруженность, свой опыт, свой уже пройденный путь? Или это каждый раз – шаг в неизвестность, в риск?
– Голый человек на голой земле. Каждый раз»10.
Эта особенность воплощения лирического сознания была подробно описана М.М. Бахтиным в его работе «Автор и герой в эстетической деятельности». Характеризуя отношения автора и героя в лирике, М.М. Бахтин пишет, что «одинокий внешне герой оказывается внутренне ценностно не одиноким; проникающий в него другой отклоняет его от линии ценностного отношения к себе самому и не позволяет этому отношению сделаться единственно формирующей и упорядочивающей его внутреннюю жизнь (каяться, просить и переходить себя самого)»11. Иными словами, именно наличие Другого не позволяет лирическому «я» оставаться в абсолютном одиночестве, которое, если оно все-таки обнаруживает себя, приводит к таким формам объективации, как исповедь, молитва и покаяние, «где жизнь героя может выразиться только в поступке, в объективном са-моотчете»12.
Согласно второму принципиальному положению М.М. Бахтина, лирическое высказывание возможно только в атмосфере хора, поскольку «авторитет автора есть авторитет хора»13. Именно хор является воплощением той внешней любви, в атмосфере которой может состояться лирическое высказывание как таковое, даже самое трагическое по своей сути. Можно предположить, что категория хора на определенном этапе развития лирики трансформируется в категорию жанра; в рамках жанра и существует хоровая поддержка индивидуального высказывания. По мере освобождения лирического «я» от жанровой и, соответственно, хоровой поддержки складываются иные формы отношения между «я» и «миром» и возникает необходимость самостоятельного построения мира, его «оцельнения».
Прежде всего, изменяются основные параметры поэтического мира – время и пространство; хронотоп смещается в сторону абсолютной непредсказуемости и невозможности его предвидения. Подобные изменения были возможны и в рамках «хорового» мышления, но жанровая модель задавала определенное отношение к ним. При утрате жанрового мышления неизбежно встает вопрос о соотношении лирического сознания и «большого времени»; на пути его решения возникают такие изменения родовой природы лирики, как тяготение к новелле, драме или тенденция к циклиза-ции14. Лирическое «я» самостоятельно творит мир, подчиняя его своей воле.
Данный процесс С.Н. Бройтман связывает с заменой жанрового канона внутренней мерой: «В эйдетическую эпоху произведение мыслилось преимущественно в форме жанра, который был заданной до начала «игры» идеальной моделью целого. Автор создавал (и читатель воспринимал) в первую очередь не вообще произведение, а элегию, новеллу или роман. Сегодня он пишет именно произведение, а мы читаем автора»15. Соответственно, в новой ситуации принципиально иначе складываются не только отношения между автором и героем, но и между автором и читателем. Жанр перестает играть роль посредника, задающего модель поэтического мира. Напротив, само создание мира становится поступком, в ряде случаев предшествующим собственно явлению героя.
Особенно ярко этот процесс разворачивается в лирике рубежа XIX– XX вв., когда в художественных мирах таких поэтов, как Блок, Маяков- ский, Пастернак, Мандельштам, центральной становится задача построения поэтического мира, по-своему решаемая каждым автором. На первый план выходит не вопрос формы и содержания высказывания, а решение вопроса о возможности высказывания как такового, поскольку в том случае, если не создан ценностно освоенный личностный мир, высказывание может не состояться в принципе. Именно на этом этапе в лирике начинают обнаруживать себя те свойства, которым М.М. Бахтин в ней отказывает. Так, по М.М. Бахтину, онтологическим свойством лирики является то, что «лирика не определяет и не ограничивает жизненного движения героя законченной и четкой фабулой и <…> не стремится к созданию законченного характера героя и не проводит отчетливой границы всего душевного целого и всей внутренней жизни героя»16. Иначе говоря, лирика – это мгновенное высказывание, озаряющее некий фрагмент бытия, но не дающее картину бытия в целом.
С момента распада жанровой системы задача лирики кардинально меняется. В условиях отсутствия хоровой (то есть жанровой) поддержки лирическое сознание начинает существовать практически в тех же координатах, что и сознание эпическое. Благодаря этому возникает потребность в построении фабулы, необходимость заглянуть в будущее, то есть осознать себя не в конкретном моменте бытия, а выстроить некую модель существования во времени. На этом этапе и происходит оплотнение героя: лирический субъект, воплощающий качества, постулируемые тем или иным жанром, сменяется собственно лирическим героем , существующим уже в принципиально ином бытийном, временном и историческом пространстве.
Рассмотрим, как происходит данный процесс оплотнения и становления лирического героя в поэзии В.В. Маяковского. Архаическое миро-видение Маяковского, «соприродное духу древних культур»17, не предполагало оглядки на жанровый опыт предшественников. Если мы обратимся к ряду принципиальных характеристик лирического сознания раннего
Маяковского, то обнаружим крайнюю форму солипсизма как исток трагического мироощущения; внешний мир для лирического героя – всего лишь проекция собственных представлений о враждебном начале, угрожающем поглотить «я», совлечь его в хаос. Толпа выступает здесь не как социальная, но как психологическая категория; она выражает то коллективное бессознательное, по природе своей эротическое, которое стирает индивидуальность и приобщает лирическое сознание к стихии насилия. Достаточно вспомнить ряд ранних стихов, объединяемый исследователями в цикл18, который можно определить как «догероический» («Ночь», «Утро», «Из улицы в улицу» и другие). Во всех произведениях этого круга нет лирического героя как такового, есть лишь взгляд на мир, лирическое сознание, еще не проявившее свою волю. Мир здесь предстает как жестокий, разъятый, проникнутый подавляющим эротизмом:
Лысый фонарь сладострастно снимает с улицы черный чулок /1, 68/.
Это абсолютно внеличностное хаотическое начало и противопоставляется явлению героя, которое происходит в стихотворении «А вы могли бы?». Отметим, что это произведение – рубежный текст, который в контексте ранней лирики Маяковского может быть уподоблен первому акту действия трагедии, тогда как ранние – своеобразному прологу. Именно здесь мы видим, как впервые появляется лирический герой, и вся дальнейшая логика развития лирического мира Маяковского – логика утверждения этого лирического героя и определения его места в мире с точки зрения возможности высказывания как такового. Вопрос о том, что такое поэтический голос, как он может звучать, какова его сила, каков резонанс этого голоса, и становится главной тематической категорией всей лирики Маяковского, находящей свое логическое завершение в поэме «Во весь го- лос». По мере того как зарождается художественная целостность мира, возникает вопрос именно фабульного характера, поскольку существование во внежанровом поле требует представления о конечной форме мира, к которой герой стремится и которая должна воплотиться в итоге всего его творчества. Причем следует заметить, что конечный, оцельняющий образ мира – это не итог творчества, а некий эмбрион, обнаруженный уже в раннем творчестве, а затем разворачиваемый в разных формах и воплощаемый в различных текстах. Для мира Маяковского такую оцельняющую форму можно условно описать как форму мира-лица, то есть такого мира, главной чертой которого будет способность мира к всепонимающему взгляду. Только находясь во власти такого взгляда мира-лица герой способен не чувствовать свой изъян, природа которого связана с изначальным отсутствием Другого, чей авторитет не позволял бы замыкаться на самом себе19.
Лирика Маяковского являет собой пример абсолютного одиночества, что было отмечено еще Б.Л. Пастернаком: «Искусство называлось трагедией. Так и следует ему называться. Трагедия называлась “Владимир Маяковский”. Заглавье скрывало гениально простое открытие, что поэт не автор, но – предмет лирики, от первого лица обращающийся к миру. Заглавье было не именем сочинителя, а фамилией содержанья»20. Утверждение имени, о котором говорит Б.Л. Пастернак в «Охранной грамоте», происходит перед лицом Другого, тогда как имя, утверждаемое перед собой, амбивалентно:
Иногда мне кажется, Я петух голландский Или я
Король псковский.
А иногда
Мне больше всего нравится
Моя собственная фамилия
Владимир Маяковский /9, 24/.
В лирике В.В. Маяковского возможны различные способы «оцельне-ния» мира: создание образа мира, сотворение утопии, утверждение имени как такового. Но ни одна из данных форм не является абсолютной, что, в свою очередь, ставит поэта перед необходимостью поступка. По утверждению М.М. Бахтина, «каждая мысль моя с ее содержанием есть индивидуально-ответственный поступок, один из поступков, из которых слагается вся моя единственная жизнь как сплошное поступление, ибо вся жизнь в целом может быть рассмотрена как некий сложный поступок: я поступаю всей своей жизнью, каждый отдельный акт и переживание есть момент моей жизни – поступления21. Соприродное бахтинскому понимание жизни в целом как поступка и предопределяет внутреннюю драматическую природу лирических текстов Маяковского, ибо главной завершающей категорией в его поэтическом мире является именно поступок, смерть и воскресение.
Динамика лирики В.В. Маяковского определяется существованием лирического героя в открытом пространстве, в частности, на площади. На этом пространстве площади чужой взгляд всегда становится силой, заставляющей героя совершать постоянные трансформации, обусловленные ощущением его внутренней неполноценности («Скрипка и немножко нервно», «Хорошее отношение к лошадям»).
Уже в стихотворении «А вы могли бы?» трансформация мира связана не просто с переосмыслением определенного ряда бытовых предметов (студень, вывеска с изображением рыбы, водосточные трубы). Все это преображение происходит отнюдь не в силу стихийных творческих порывов автора, находящего «поэтические значения не вне, а в толще бытовых значений»22. Мир, создаваемый в тексте, трансформируется в четко заданном направлении: предметный ряд превращается в лицо, обнаруживая его главные атрибуты – скулы и губы23. Более того, именно губы дают воз- можность реализации гармоничного звука – в данном случае, сыгранного на флейте ноктюрна24. Вся последующая логика развертывания художественного мира В.В. Маяковского определяется его превращением в определенное тело, главным элементом которого становится лицо и взгляд как воплощение абсолютного понимания.
Существование некоего общего организующего начала можно отметить и в лирике названных выше поэтов. Но если у Маяковского идет движение от площади к некоему пространству, где площадное будет снято как враждебное, то лирика Мандельштама и Пастернака формируется как лирика «домашней семантики», и движение от дома к миру определяет их вектор развития лирической системы.
-
1 Гинзбург Л.Я. О лирике. М., 1997. С. 46–52; Бройтман С.Н. Историческая поэтика // Теория литературы: В 2 т. / Под ред. Н.Д. Тамарченко. Т. 2. М., 2004. С. 313–335; Зырянов О.В. Эволюция жанрового сознания русской лирики: Феноменологический аспект. Екатеринбург, 2003.
-
2 Гинзбург Л.Я. О лирике. М., 1997. С. 51.
-
3 Грехнев В.А. Лирика Пушкина: О поэтике жанров. Горький, 1985. С. 5.
-
4 Там же. С. 16.
-
5 Там же. С. 6.
-
6 Там же. С. 13.
-
7 Там же. С. 11.
-
8 Зырянов О.В. Указ. соч. С. 6.
-
9 Маяковский В.В. Собрание сочинений: В 12 т. М., 1978. Т. 1. С. 233. В дальнейшем произведения В.В. Маяковского цитируются по этому изданию, номера тома и страницы указываются в тексте.
-
10 Чуковская Л.К. Записки об Анне Ахматовой. 1938–1941. Т. 1. М., 1997. С. 133.
-
11 Бахтин М.М. Автор и герой: К философским основам гуманитарных наук. СПб., 2000. С. 189.
-
12 Там же. С.189.
-
13 Там же. С. 189.
-
14 Дарвин М.Н. Европейские традиции в становлении понятия цикла // Европейский лирический цикл. Историческое и сравнительное изучение. М., 2003. С. 38–49.
-
15 Бройтман С.Н. Указ. соч. С. 316.
-
16 Бахтин М.М. Автор и герой: К философским основам гуманитарных наук. СПб., 2000. С.188.
-
17 Вайскопф М.Я. Во весь логос: Религия Маяковского. М.; Иерусалим, 1997. С. 15.
-
18 Лейдерман Н.Л. Логика Бунта: к характеристике художественной системы раннего Маяковского // Проблемы взаимодействия метода, стиля и жанра в советской литературе. Свердловск, 1990. С. 3–17.
-
19 Бахтин М.М. Автор и герой: К философским основам гуманитарных наук. СПб., 2000. С. 188–189.
-
20 Пастернак Б.Л. Охранная грамота // Пастернак Б.Л. Собрание сочинений: В 5 т. Т. 4. М., 1997. С. 219.
-
21 Бахтин М.М. К философии поступка // Бахтин М.М. Собрание сочинений. Т. 1. М., 2003. С. 8.
-
22 Лотман Ю.М. О поэтах и поэзии. СПб., 1996. С. 93–94.
-
23 Впервые отмечено в статье О. и С. Гончаровых: Утопическое сознание В. Маяковского // Wlodzimierz Majakowski i jego czasy. Warszawa, 1995. S. 115–122.
-
24 Образ губ в лирике В.В. Маяковского заслуживает отдельного рассмотрения. В ранней лирике он отмечен негативной семантикой как зовущий эротический элемент. В рассматриваемом тексте происходит преодоление эротического подтекста через рождение музыкального звука, противопоставленного миру торжествующего эроса.
Список литературы Распад жанров и новые принципы «оцельнения» художественного мира в лирике В. Маяковского
- Гинзбург Л.Я. О лирике. М., 1997. С. 46-52.
- Бройтман С.Н. Историческая поэтика//Теория литературы: В 2 т./Под ред. Н.Д. Тамарченко. Т. 2. М., 2004. С. 313-335.
- Зырянов О.В. Эволюция жанрового сознания русской лирики: Феноменологический аспект. Екатеринбург, 2003.
- Гинзбург Л.Я. О лирике. М., 1997. С. 51.
- Грехнев В.А. Лирика Пушкина: О поэтике жанров. Горький, 1985. С. 5.
- Там же. С. 16.
- Там же. С. 6.
- Там же. С. 13.
- Там же. С. 11.
- Зырянов О.В. Указ. соч. С. 6.
- Маяковский В.В. Собрание сочинений: В 12 т. М., 1978. Т. 1. С. 233.
- Чуковская Л.К. Записки об Анне Ахматовой. 1938-1941. Т. 1. М., 1997. С. 133.
- Бахтин М.М. Автор и герой: К философским основам гуманитарных наук. СПб., 2000. С. 189.
- Дарвин М.Н. Европейские традиции в становлении понятия цикла//Европейский лирический цикл. Историческое и сравнительное изучение. М., 2003. С. 38-49.
- Бройтман С.Н. Указ. соч. С. 316.
- Бахтин М.М. Автор и герой: К философским основам гуманитарных наук. СПб., 2000. С.188.
- Вайскопф М.Я. Во весь логос: Религия Маяковского. М.; Иерусалим, 1997. С. 15.
- Лейдерман Н.Л. Логика Бунта: к характеристике художественной системы раннего Маяковского//Проблемы взаимодействия метода, стиля и жанра в советской литературе. Свердловск, 1990. С. 3-17.
- Бахтин М.М. Автор и герой: К философским основам гуманитарных наук. СПб., 2000. С. 188-189.
- Пастернак Б.Л. Охранная грамота//Пастернак Б.Л. Собрание сочинений: В 5 т. Т. 4. М., 1997. С. 219.
- Бахтин М.М. К философии поступка//Бахтин М.М. Собрание сочинений. Т. 1. М., 2003. С. 8.
- Лотман Ю.М. О поэтах и поэзии. СПб., 1996. С. 93-94.
- Гончарова О., Гончаров С. Утопическое сознание В. Маяковского//Wlodzimierz Majakowski i jego czasy. Warszawa, 1995. S. 115-122.