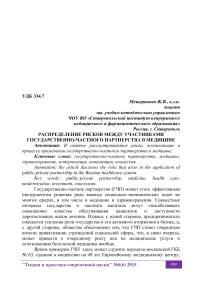Распределение рисков между участниками государственно-частного партнерства в медицине
Автор: Мещерякова Ж.В.
Журнал: Теория и практика современной науки @modern-j
Рубрика: Основной раздел
Статья в выпуске: 6 (6), 2015 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются риски, возникающие в процессе применения государственно-частного партнерства в медицине.
Государственно-частное партнерство, медицина, здравоохранение, модернизация, инвестиции, концессия
Короткий адрес: https://sciup.org/140267122
IDR: 140267122
Текст научной статьи Распределение рисков между участниками государственно-частного партнерства в медицине
Государственно-частное партнерство (ГЧП) может стать эффективным инструментом решения ряда важных социально-экономических задач во многих сферах, в том числе в медицине и здравоохранении. Совместные интересы государства и частного капитала могут способствовать повышению качества обслуживания пациентов и доступности дорогостоящих видов лечения. Однако, с одной стороны, предприниматели опасаются усиления роли государства и его активного вторжения в бизнес, а, с другой стороны, общество обеспокоено тем, что ГЧП станет очередным витком приватизации учреждений социальной сферы, что, в свою очередь, может привести к очередному росту цен на медицинские услуги и исчезновению бесплатной медицины вообще.
Ярким примером ГЧП здесь может служить передача московской ГКБ № 63, сданная в концессию на 49 лет Европейскому медицинскому центру, который принял на себя обязательства создать на месте старой больницы 4 высокотехнологичных медицинских центра. Уже известно, что после передачи больницы частному партнеру бесплатными для пациентов остались только 40% видов медицинской помощи. [1]
Таким образом, возникает ряд вопросов о целесообразности использования ГЧП. Ведь только за прошлый год объем платных медицинских услуг вырос на 20%, более половины пациентов больниц вынуждены платить за лечение в стационарах, 30% - за амбулаторнополиклиническую помощь, 65% - за стоматологические услуги. Бизнес на болезнях людей недопустим. Вероятен ли отказ государства от обеспечения конституционных прав российских граждан?
В переводе с английского, «PPP» - public - private partnership переводится как государственное предприятие с участием частного капитала. Во многих европейских странах ГЧП развивается уже давно и имеет хорошие примеры эффективных результатов. Хотя частные учреждения там не намного эффективнее государственных и общественных. В основе этого успеха - правовое обеспечение успешности такого рода проектов. Правовые гарантии очень важны, ведь такие проекты длятся не один год, часто охватывают десятилетия. И инвесторам очень важно знать, что за этот период правила не изменятся или, по крайней мере, не затронут сущности проекта. В нашей памяти еще свежи примеры 90-х годов, когда законодательство по важным для бизнеса позициям менялось с сумасшедшей скоростью. Сейчас ситуация меняется в лучшую сторону, но опасения, что все может в одночасье измениться, остаются. Поэтому мы, к сожалению, вынуждены признавать, что по сравнению с нашими зарубежными коллегами мы существуем в различающихся по устойчивости правовых полях.
Международный опыт предоставил нам базовые признаки государственно-частного партнерства, которые служат ориентиром для России:
-
• сторонами ГЧП являются государство и частный бизнес;
-
• взаимодействие сторон закрепляется на официальной, юридической основе;
-
• государственно-частное партнерство имеет четко выраженную публичную, общественную направленность;
-
• в процессе реализации проектов на основе ГЧП консолидируются, объединяются ресурсы и вклады сторон;
-
• финансовые риски и затраты, а также достигнутые результаты распределяются между сторонами в заранее определенных пропорциях;
-
• как правило, ГЧП предполагает, что не государство подключается к проектам бизнеса, а, наоборот, государство приглашает бизнес принять участие в реализации общественно значимых проектов. [2]
Таким образом, в этом партнерстве за государством сильные социальные и регулирующие функции, распределение бюджета и управление активами. В то время как бизнес озабочен получением прибыли, возвратом инвестиций, увеличением доли рынка и приобретением/увеличением активов. Успешность ГЧП во многом зависит от того, насколько в практике реализации совместных проектов эти, казалось, разновекторные функции и задачи, удастся оптимально совместить.
Существуют примеры и наиболее часто встречающихся в разных странах форм государственно-частного партнерства: [3]
ВОТ (Build - Operate - Transfer) - строительство - управление -передача.
ВТО (Build - Transfer - Transfer) - строительство - передача -управление.
BOO (Build - Own - Operate) - строительство - владение - управление.
BOOT (Build - Own - Operate - Transfer) - строительство - владение -управление - передача.
ВВОТ (Buy - Build - Operate) - покупка - строительство - управление.
Чаще всего в тех странах, где ГЧП хорошо развито, оно предполагает на первом этапе строительство объекта (как правило, на деньги частного инвестора), а на втором - управление и возможную передачу либо совместное владение этим объектом на основе временного контракта. А как складывается ситуация в медицине? Договариваться с государством о строительстве маленькой клиники - смешно. Объект должен быть большим и солидным, срок окупаемости такого проекта 15-20 лет, и вкладываться в него надо десятками, а то и сотнями миллионов долларов. Потому и не стоят инвесторы в очереди. Вложить легко, но за двадцать лет в стране опять может все измениться в бизнес-смысле и с кого потом спрашивать про изменившиеся условия.
Так и рождается самый главный риск для государственно-частного партнерства в российском здравоохранении - боязнь изменения законодательной или понятийной основы, которые во временных рамках проекта делают его полностью неинтересным как объект инвестиций. Правда, если бизнес честно посмотрит на этот риск, то риск номер два является как бы изнанкой первого. Ведь строительство большого объекта длится лет пять, и где гарантии, что инвестор за это время сохранит способность финансировать этот проект, что в его бизнесе все будет хорошо и стабильно, и что вообще этот бизнес сохранится.
Далее, многочисленные административные барьеры, существование некоторых из них плохо поддается объяснению, просто воспринимается как факт. Нет действенных механизмов, регулирующих взаимоотношения государства и инвесторов, которые бы не провоцировали создание неправомочных зависимостей, а делали бы процедуры понятными и прозрачными для партнеров. Во многом этим объясняется и существующая проблема доверия между предполагаемыми партнерами. И, наконец, отсутствие налогового стимулирования и государственных гарантий для бизнеса. [4]
О больших и малых рисках можно говорить бесконечно, но среди них выделяются те, которые являются ключевыми и на сегодняшний день объективно существующими. Прежде всего, это вообще дефицит законов, определяющих принципы взаимодействия партнеров в государственно -частном партнерстве, несовершенство существующей нормативно-правовой базы. В условиях отсутствия базового закона это становится реально сдерживающим фактором для бизнеса, что признается и представителями законодательной власти.
Чтобы сэкономить средства при помощи ГЧП, предстоит внести массу поправок в федеральные законы - «Об обязательном медицинском страховании», «О концессионных соглашениях», «Об автономных учреждениях», в Налоговый кодекс РФ. Эксперты опасаются вала законодательных актов вначале в медицине, а затем в других сферах профессиональной деятельности.
Частным партнерам сейчас обещают различные льготы. Есть предложения освободить компании-инвесторы в здравоохранении от НДС и налога на прибыль. Тем, кто финансируют медицину, собираются по льготным ценам давать земельные участки под строительство медицинских центров.
При этом пациентов от налогов никто не освобождает. Им собираются дать возможность вернуть или уменьшить НДФЛ на сумму, потраченную на лечение себя или близких. Большинство предпочтет не связывать себя с бюрократическими процедурами. В этом случае пациент станет главным спонсором двух партнеров - частного (коммерческой компании) и публичного (государства). Ни один из этих партнеров не хочет лишаться своего дохода. Если цена на лечение не устроит пациентов - они попросту не обратятся за медицинской помощью. Как говорится, «в России цены на лекарства повышают иммунитет». Пострадают не только сами пациенты, оставшиеся без помощи врача, но и частный партнер, не получивший доходов. Защитить его в данном случае должно будет государство. Так экономия средств федерального бюджета на первоначальном этапе обернется большими тратами в будущем.
Выгода частного партнера также относительна. Большинство рисков ложится все-таки на инвестора. Проблемы могут быть связаны и со строительством здания, и с его эксплуатацией, и с финансированием. Медицина вообще низкоокупаемое и очень сложное партнерство. Например, в психиатрии и наркологии частному инвестору возвращается примерно 70% вложений.
Попытка создать рынок в общественных сферах для государства, как представляется, априори не имеет смысла, поскольку рынок не может регулировать социальные функции, вернее, может, но делает это в интересах не социальной эффективности и здоровья населения, а превращает все в бизнес, ставя во главу угла извлечение прибыли. Яркий пример – США. При высоком уровне развития капитализма, и, следовательно, хорошо работающей «невидимой руке рынка», после знаменитых реформ Барака Обамы, около 40 млн человек оказались не в состоянии получать квалифицированную медицинскую помощь.
Почему ГЧП так усиленно продавливается в России, и по какой причине полигоном этого эксперимента в Москве избрана одна из наиболее чувствительных в социальном отношении сфер – здравоохранение? Еще один пример - деятельность столичного ЗАО «Медси». Создав в 2012 году совместное предприятие с государственным унитарным предприятием (ГУП) «Медицинский центр Управления делами мэра и Правительства Москвы», компания «Медси» получила от города три больницы, четыре поликлиники и три санатория, по оценке аудиторов на сумму свыше 6 млрд рублей. В обмен на оставленный государством себе блокирующий пакет размером в 25,02% объединенной компании. Сегодня простой человек не может даже подступиться туда с полисом ОМС. Таким образом, проблемы при внедрении ГЧП возникают автоматически. [1]
В рамках ГЧП государство уже не сможет контролировать такие совместные предприятия. А это приводит не только к фактической потере прав на бесплатную медицинскую помощь, но и к ухудшению качества этой помощи. Та же самая модель, что и в раскритикованной Президентом системе выдачи аптеками льготных лекарств: по льготе – нет, за деньги – пожалуйста. Помощь нуждающимся, за которую государство уже заплатило из бюджета, нуждающимся гражданам аферисты от медицины по сути повторно продают, незаконно наживаясь на их болезнях. Это наглядный пример функционирования ГЧП и возникновения острого конфликта интересов, когда пациентам хочется выздороветь, а бизнесу выгоднее, чтобы он дольше и тяжелее болел. То есть суть интереса частного бизнеса состоит в том, что при партнерстве с государством он получает стабильный рынок и прибыль, отсутствие конкуренции, и государственные активы в пользование. Не возникает конфликта интересов только в единственном случае – при полностью государственной медицине, где интересы пациента, врача и государства целиком совпадают.
Так же сохраняются высокие риски выбытия из проектов, а при любой кризисной ситуации, экономической или военной, ГЧП будет просто парализовано во всех субъектах лечебной и хозяйственной деятельности, которые к нему перейдут. Следовательно, обретение частным бизнесом активов и рычагов влияния в этой чувствительной сфере представляет собой опасность уже для государства и его интересов.
По сути, с помощью партнерства с государством частный бизнес делает не что иное, как кредитуется. Ограниченность возможностей любого бизнесмена по сравнению с государством по участию в развитии любой формы ГЧП очевидна. Инвестиции частников - это обычное кредитование, аналогичное ипотечному: длинные кредиты с небольшой процентной ставкой. В ситуации, когда имеется надежный плательщик по кредиту, привлечь частные инвестиции не составляет труда. В российском здравоохранении самым надежным заемщиком является государство. Есть уже прецеденты, когда Федеральное государственное бюджетное учреждение cамо становилось частным партнером. Например, берет в аренду помещения по льготной программе и ведет прием населения на тех же условиях, что и частные операторы. Это своеобразные госпредприниматели, частный здесь только способ освоения финансирования и присвоения прибыли. Поэтому вопрос стоит не «откуда взять инвестиции», а «кто получит государственные активы».
Однако, необходимо все же констатировать, что модернизация и развитие здравоохранения невозможны без современного механизма эффективной инвестиционной политики, частью которой и может стать государственно-частное партнерство.
Список литературы Распределение рисков между участниками государственно-частного партнерства в медицине
- ГЧП в медицине: главные спонсоры - пациенты? [Электронный ресурс]. Московские аптеки. URL: http://mosapteki.ru/material/gchp-v-medicine-glavnye-sponsory-pacienty-1525.
- Мещерякова Ж.В. Оценка эффективности инновационных проектов государственно-частного партнерства // Аграрная наука, творчество, рост. Сборник научных трудов IV Международной научно-практической конференции. СГАУ. г. Ставрополь. - 2014. - С. 250-252.
- Мещерякова Ж.В. Государственно-частное партнерство в инновационном механизме развития экономики Северо-Кавказского федерального округа // Экономика и социум. - 2014. - Выпуск № 1(10). - URL: http://www.iupr.ru.
- Мещерякова Ж.В. Концессия как механизм развития региональной экономики // Вестник Северо-Кавказского гуманитарного института. - 2014. - № 3(11) - С. 15-19.