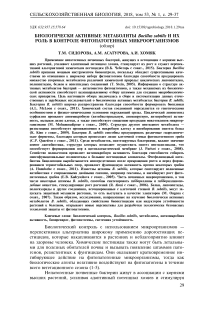Распространение микотоксинов в кормах летнего пастбищного рациона Rangifer tarandus в арктической зоне России
Автор: Йылдырым Е.А., Ильина Л.А., Лайшев К.А., Филиппова В.А., Дубровин А.В., Дуняшев Т.П., Лаптев Г.Ю., Никонов И.Н., Южаков А.А., Романенко Т.М., Вылко Ю.П.
Журнал: Сельскохозяйственная биология @agrobiology
Рубрика: Корма и рационы
Статья в выпуске: 4 т.53, 2018 года.
Бесплатный доступ
В летне-осенний период основу кормовой базы Rangifer tarandus составляют до 300 видов высших растений, около 15 % приходятся на долю лишайников. Показано, что в тканях некоторых высших растений и в почве под лишайниками присутствуют микромицеты, способные продуцировать микотоксины. В настоящей работе мы впервые оценили содержание микотоксинов для таких компонентов летних пастбищных рационах северных оленей, как Sаlix borеalis, Vaccinium uliginosum, Bеtula nаna, B. pendula. Цель исследования заключалась в анализе распространения микотоксинов в компонентах летнего рациона северных оленей методом иммуноферментного анализа. Образцы лишайников родов Cladonia и Nephroma, высших растений видов Sаlix borеalis, Vaccinium uliginosum, Bеtula nаna, B. pendula, а также смеси различных многолетних трав были отобраны в начале августа 2017 года на территориях тундровых и лесотундровых пастбищ, расположенных в поселке городского типа Харп (Приуральский р-н, Ямало-Ненецкий автономный округ), поселке Нельмин-Нос (Ненецкий АО) и сельском поселении Пушной (Кольский р-н, Мурманская обл...
Корма, лишайники, микотоксины, ифа
Короткий адрес: https://sciup.org/142216578
IDR: 142216578 | УДК: 639.111.4:636.085.19 | DOI: 10.15389/agrobiology.2018.4.779rus
Текст научной статьи Распространение микотоксинов в кормах летнего пастбищного рациона Rangifer tarandus в арктической зоне России
Биологический контроль с использованием микроорганизмов — перспективная альтернатива широкому применению дорогостоящих пестицидов, которые накапливаются в растениях и неблагоприятно влияют на здоровье человека. Химические пестициды также могут быть летальными для полезных обитателей почвы и вызывать появление штаммов патогенов, резистентных к фунгицидам. Они оказывают кратковременное ингибирующее действие на фитопатогенные микроорганизмы, тогда как биологические агенты негативно воздействуют на фитопатогены в течение всего вегетационного сезона (1-5).
Непатогенные почвенные бактерии живут в ассоциации с корнями высших растений, усиливая адаптивный потенциал хозяев и стимулируя их рост. В 1980 году J.W. Kloepper назвал их ризобактериями, содействующими росту растения (plant growh promoting rizobacteria, PGPR). Одной из характеристик ризосферы растений, отражающей ее заселенность микроорганизмами, служит количественное отношение R/S (rhizosphere/soil). Для большинства ризобактерий величина R/S колеблется от 2 до 25 (6). Особенностей, благодаря которым ризобактерии могут действовать как агенты биоконтроля, несколько. Это возможность конкурировать с фитопатогенами за экологические ниши (7), продуцировать различные антимикробные соединения (8-10), воздействовать на защитную систему растения (системную устойчивость), стимулировать рост растений посредством увеличения доступности для поглощения из почвы питательных веществ — азота, фосфора, аминокислот (11).
Цель настоящего обзора заключалась в сборе и систематизации данных отечественных и зарубежных исследователей о биологически активных метаболитах бактерии Bacillus subtilis , которая в настоящее время признана мощным инструментом биоконтроля.
B. subtilis может поддерживать постоянный контакт с высшими растениями и стимулировать их рост. Благодаря широкому кругу хозяев, способности формировать эндоспоры и продуцировать различные антибиотики лучше других представителей рода Bacillus вид B. subtilis пригоден в качестве агента биоконтроля (12). Бактерия обладает супрессивными качествами in vitro по отношению более чем к 20 типам фитопатогенных организмов за счет способности продуцировать значительное количество вторичных метаболитов: циклических липопептидов, полипептидов, белков и непептидных соединений (13, 14). Эти вещества, преимущественно пептиды, имеют либо рибосомальное, либо нерибосомальное происхождение (15).
Основная фракция антибиотиков B. subtilis , подавляющая фитопатогены, — нерибосомально синтезируемые пептидные производные, в основном липопептиды (15). Липопептидные антибиотики образуются при соединении β -гидроксильных остатков или β -аминогрупп и жирных кислот. Длина и разветвленность цепочек жирных кислот и заместителей аминокислот определяют свойства продукта (16).
Бактерии B. subtilis широко распространены в окружающей среде, поскольку многие дикие штаммы способны формировать биопленку на поверхности корней растений (17, 18). Циклический липопептид сурфак-тин содержит карбоксильную кислоту (3-гидрокси-13-метилтетрадекановая кислота) и семь аминокислот. Структура характеризуется наличием гептапептида, соединенного с жирной β -гидроксикислотой через лактоновую связь (19, 20). Другие аналоги сурфактина — пумилаципдин, бацирцин и лихенизин (21). Сурфактин — один из наиболее активных биосурфактантов (13, 21), известный стимулятор формирования биопленки. Частично это объясняется его действием как активатора мембраночувствительной гистидинкиназы (17, 22, 23).
Экзополимерные соединения играют важную роль в формировании биопленки, а их химическое строение влияет на ее свойства и качество (24, 25). Биопленка способствует колонизации корней бактериями и тем самым повышает локальную концентрацию антибиотиков (26). В то же время ее образование способствует повышению антимикробной устойчивости (27-29). Сурфактин обладает антибактериальной, антивирусной, ан-тигрибной, антимикоплазменной, инсектицидной и гербицидной активностью (30-34), стимулирует устойчивость к проникновению патогена, воздействуя на защитный механизм растения (35, 36). Биоконтроль фитопа-тогенного гриба Aspergillus flavus с помощью сурфактина способствует снижению контаминации растений микотоксинами (37).
Близкие по строению циклические липогептапептиды микосубти-лин, итурин и бацилломицин с мощной антигрибной и гемолитической, но ограниченной антибактериальной активностью многие авторы объединяют под общим названием итурины. Антигрибной эффект проявляется при взаимодействии с цитоплазматической мембраной клеток, при этом формируются ионопроницаемые поры (38, 39). В Китае выделен новый штамм B. subtilis , который продуцирует антибиотик jiean-пептид, близкий по строению к итурину (40). Jiean-пептид проявляет фунгицидные свойства против возбудителей болезней различных сельскохозяйственных культур (41, 42). Штамм продуцирует это биофунгицидное соединение при условии, что клетки бактерии адсорбированы на кусочках дерева.
Фенгицин (синоним плипастаин) сочетает в своем строении несколько соединений с необычной структурой: составляющие части циклических, разветвленных и редких веществ (43). Он содержит жирную β -гидроксикислоту, связанную с N-конечным декапептидом, который включает четыре β -аминокислотных остатка и редкую аминокислоту L-орнитин. С-конечный остаток пептида частично связан с остатком тирозина в положении 3, при этом сохраняется точка разветвления ацилпептида и восьмичленного циклического лактона (15). Фенгицин обладает антигрибной активностью против некоторых нитевидных грибов (44). Соединение успешно применяется для контроля Fusarium moniliforme , при этом подавляется рост мицелия и образование спор. Возможный механизм антигрибной активности фенгицина состоит во взаимодействии молекул стирола и фосфолипида в мембране, из-за чего нарушается структура мембран клеток мишени (45-47).
Ризоктицин — фосфатсодержащий олигопептидный антибиотик, синтезируемый грамположительной бактерией B. subtilis АТСС 6633 (48). Это ди- и трипептид, содержащий аминокислоту аргинин и L-2-амино-5-фосфорно-3-пентеноиковую аминокислоту, не встречающуюся в структуре белков. Ризоктицины проникают в грибную клетку через олигопептидную транспортную систему. В результате пептидазой освобождается небелковая фосфатсодержащая аминокислота, которая ингибирует синтез белка. Фос-фонатные соединения распространены среди биологически активных веществ главным образом благодаря способности влиять на карбокси- и фосфатсодержащие метаболиты (46).
Лантибиотики — рибосомально синтезируемые пептидные антибиотики с уникальными особенностями (лантионинсодержащие антибиотики). Лантионин образуется за счет рибосомального синтеза либо модификации (дегидратации серина и последующего соединения с тиолоновыми группами цистеина) (49). Свойства разных типов лантибиотиков, основанные на их структуре, неодинаковы. Лантибиотики типа А (21-38 аминокислотных остатка) имеют более линейную вторичную структуру и разрушают грамположительные клетки-мишени, формируя поры в цитоплазматической мембране.
Субтилин — 32-аминокислотный пентациклический лантибиотик, структурно связанный с низином (Lactococcus lactis), который широко используется в биозащите (50). Синтез лантибиотиков регулирует как плотность клеток, так и механизм споруляции. Биологическая активность лан-тибиотиков, образуемых грамположительной бактерией, ингибирует синтез пептидогликана и укорачивает его молекулу, что облегчает формирование пор (51). В синтезе субтилина участвуют также сериновые протеазы. Высокое содержание липопептида микосубтилина (880 мг/г) обнаружено у штамма B. subtilis — антагониста Candida sp. (18).
Эрицин S и субтилин различаются только по четырем аминокислотам, то есть антимикробные свойства обоих лантибиотиков сопоставимы. Однако эрицин А отличается от эрицина S строением кольца и расположением 16 аминокислот (16). Лантибиотик мерсацидин относится к лан-тибиотикам типа В, которые имеют более крупный размер молекул и разнообразную структуру.
Субтиломицин синтезируется B. subtilis MMA7, выделенной из морской губки Halilona simulans . Субтилозин А синтезируют несколько штаммов B. subtilis , он имеет макроциклическую структуру с тремя промежуточными связями, включая эфирные связи между сульфатом цистеина и α -углеводом аминокислоты (15). Субланцин 168 с β -метиллантиониновым мостиком и редкими для лантибиотиков двумя дисульфидными связами активен преимущественно против грамположительных бактерий.
Бактерии B. subtilis применяют в качестве продуцентов амилаз, протеаз, хитиназ, ксиланаз, липаз, глюконаз, целлюлаз и других ферментов (52, 53). Бациллы прикрепляются к грибным гифам, лизируют клеточные стенки фитопатогенного гриба и используют продукты лизиса в качестве дополнительного источника питания и энергии (54).
B. subtilis наряду с пептидными антибиотиками продуцирует поликетоны, которые служат активными агентами в биологическом контроле фитопатогенов. Поликетоны — семейство метаболитов, представляющих собой ферменты поликетонсинтетазы, которые проявляют антимикробную активность благодаря способности собирать многофункциональные полипептиды в большие пестицидные комплексы. По строению это линейные молекулы с двумя амидными связями, состоящие из разнообразных остатков и заместителей. В зависимости от строения и функций эти метаболиты объединены в следующие группы: бациллоены, дегидробациллоены, диффицидин, оксидиффицидин, макролацин (40, 43).
Внутри клеток B. subtilis 168 непосредственно после прекращения роста и перед формированием термостабильных спор вырабатывается фосфолипидный антибиотик бацилизоцин. Его активность в большей степени проявляется против эукариотического организма Sacharomyces cere-visiae , а также низших грибов Candida pseudotropicalis и Cryptococus neoformans , которые характеризуются ненитевидным ростом (55, 56).
Фосфолипиды, продуцируемые B. subtilis , проявляют антимикробную активность против грамотрицательных бактерий ( Escherichia coli , Proteus mirabilis и Pseudomonas aeruginosa ), грамположительных бактерий ( Staphylococcus aureus и Enterococcus faecalis ), Actinomyces sp . и грибов ( Aspergillus niger , Candida albicans ) (57). Обнаружено, что их антимикробный эффект усиливается с повышением температуры (до 50 ° С) и рН (до 10) (58, 59).
Некоторые штаммы B. subtilis синтезируют метаболиты, относящиеся к полиеновым антибиотикам с сопряженными двойными связями. Гексаены других штаммов B. subtilis в разной степени ингибируют рост фитопатогенных грибов Fusarium culmorum , F. sporotrichiella , F. oxysporum , Botrytis sorokiniana , Alternaria tenui и Phytophthora infestans (60).
Изокумарины представляют интересную группу фенольных соединений, которые встречаются у видов Bacillus как производные фенилпро-панола. Одиннадцать штаммов B. subtilis , выделенных из различных географических и экологических ниш, продуцируют амикумацины, отнесенные к антибиотикам изокумариновой группы. Амикумацин и бацилло-сарцин, выделенные из культуральной жидкости морской бактерии B. sub-tilis ТР-В0611, защищают растения от амбарной моли (43).
Изопрен — самый малочисленный представитель природных терпеноидов. В отличие от других бактерий, B. subtilis 6051, B. subtilis 23029 и B. subtilis 23856 выделяют летучее вещество изопрен в относительно высоких концентрациях (43). Спорулены А, В и С — три терпеноида, выделенные из спор B. subtilis , которые могут защищать споры бацилл от оксида-тивного стресса. Биологическая роль споруленов определяется споруляцией B. subtilis (43).
Некоторые штаммы B. subtilis продуцируют гиббереллины и гиббереллиноподобные вещества (61). Цитокинины — регуляторы клеточного деления и дифференциации в различных тканях растения. Они играют важную роль в росте и формировании узелков. У B. subtilis показано выделение смеси летучих соединений, главным образом 3-гидроксибутан-2-она и бутан-2,3-диола, стимулирующих рост растений (46, 57).
Индуцированная системная устойчивость — результат взаимодействия микроорганизмов и растения, особая роль в котором отводится ризо-бактериям, в частности B. subtilis . Элиситорами, запускающими защитный механизм растения, могут быть белки, липопептиды, полисахариды и другие соединения, ассоциированные с клеточной стенкой бактерии B. subtilis (61, 62). Бактериальные метаболиты, обладающие свойствами индуцированной устойчивости, включают цепочку взаимосвязанных друг с другом защитных реакций, в том числе образование активных форм кислорода, фосфорилирование белков, запуск базовых механизмов фитоиммунитета, которые приводят к развитию системной устойчивости (63, 64). Циклические липопептиды сурфактин, итурин и фенгицин способны оказывать влияние на сигнальные клетки растений, в результате чего запускаются природные иммунные реакции (65).
Соединения, которые высвобождаются из клеточной стенки фитопатогенов в результате воздействия гидролаз антагонистов, могут функционировать как элиситоры устойчивости, вызывая в растении возникновение защитных реакций: синтез фитоалексинов, активацию гидролитических ферментов, лигнификацию и т.д. Например, штамм B. subtilis AF1, выделенный из почв, супрессивных к Fusarium udum , способен индуцировать устойчивость арахиса против Aspergillus niger (66). Обнаружено, что этот штамм стимулирует накопление фенилаланинаммиаклиазы и пероксидазы, выступая в качестве индуктора устойчивости. В других системах значительные изменения в защитной реакции растительных клеток связаны с модификацией фенолов (66). Обработка суспензией клеток табака с добавлением низких концентраций сурфактина вызывает у растения активацию фосфорилирования и окислительных реакций, приводящих к гибели растительных клеток, а также проникшего в них фитопатогена (67).
Таким образом, Bacillus subtilis продуцирует значительное количество биологически активных метаболитов, имеющих разнообразную химическую структуру: циклические липопептиды, белки, полипептиды, кетоны, полиеновые соединения и ряд других. Способность бактерий синтезировать соединения определенной структуры предполагает наличие специфичного механизма действия на фитопатогенный объект, а также объясняет биологическую активность определенного штамма в отношении конкретных микроорганизмов. При подборе штаммов-продуцентов для создания эффективных биопрепаратов необходимо уделить внимание исследованию структуры и свойств активных метаболитов, которые они синтезируют, поскольку на этой основе могут быть разработаны новые экологически безопасные технологии защиты растений от фитопатогенов.
Список литературы Распространение микотоксинов в кормах летнего пастбищного рациона Rangifer tarandus в арктической зоне России
- Юлдашбаев Ю.А., Чикалёв А.И., Родионов Г.В. Оленеводство. М., 2015.
- Bennett J.W., Klich M. Mycotoxins. Clin. Microbiol. Rev., 2003, 16(3): 497-516 ( ) DOI: 10.1128/CMR.16.3.497-516.2003
- Буркин А.А., Кононенко Г.П. Особенности накопления микотоксинов в лишайниках. Прикладная биохимия и микробиология, 2013, 5(49): 522-530 ( ) DOI: 10.7868/S0555109913050036
- Орина А.С., Гаврилова О.П., Гагкаева Т.Ю. Колонизация культурных и дикорастущих злаковых растений грибами родов Alternaria, Cladosporium и Fusarium. Защита и карантин растений, 2017, 6: 25-27.
- Диаз Д. Микотоксины и микотоксикозы. М., 2006.
- Palo R.T. Usnic acid, a secondary metabolite of lichens and its effect on in vitro digestibility in reindeer. Rangifer, 1993, 13: 39-43.
- Sundset M.A., Edwards J.E., Cheng Y.F., Senosiain R.S., Fraile M.N., Northwood K.S., Praesteng K.E., Glad T., Mathiesen S.D., Wright A.D. Rumen microbial diversity in Svalbard reindeer, with particular emphasis on methanogenic archaea. FEMS Microbiol. Ecol., 2009, 70(3): 553-562 ( ) DOI: 10.1111/j.1574-6941.2009.00750.x
- Лузина О.А., Салахутдинов Н.Ф. Биологическая активность усниновой кислоты и ее производных. Часть 2. Действие усниновой кислоты и ее производных на высшие организмы, молекулярные и физико-химические аспекты биологической активности (обзорная статья). Биоорганическая химия, 2016, 3(42), 2016: 276 ( ) DOI: 10.7868/S0132342316030106
- Буркин А.А., Кононенко Г.П. Вторичные метаболиты грибов (микотоксины) в лишайниках разной таксономической принадлежности. Известия Российской академии наук. Серия Биологическая, 2014, 3: 228 ( ) DOI: 10.7868/S0002332914030047
- Kingsbury J.M. Poisonous plants of the United States and Canada. NY, 1964.
- Кононенко Г.П., Буркин А.А. Фузариотоксины в зерне колосовых культур: региональные особенности. В сб.: Успехи медицинской микологии. М., 2003: 141-144.
- Буркин А.А. Актуальность изучения проблемы охратоксикоза в России. В сб.: Успехи медицинской микологии. М., 2003: 122-124.
- Hernandez-Mendoza A., Garcia H.S., Steele J.L. Screening of Lactobacillus casei strains for their ability to bind aflatoxin B1. Food Chem. Toxicol., 2009, 47(6): 1064-1068 ( ) DOI: 10.1016/j.fct.2009.01.042
- Čvek D., Markov K., Frece J., Friganović M., Duraković L., Delaš F. Adhesion of zearalenone to the surface of lactic acid bacteria cells. Croatian Journal for Food Technology, Biotechnology & Nutrition, 2012, 7(Special Issue): 49-52.
- Shi L., Liang Z., Li J., Hao J., Xu Y., Huang K., Tian J., He X., Xu W. Ochratoxin A biocontrol and biodegradation by Bacillus subtilis CW 14. J. Sci. Food Agr., 2014, 94(9): 1879-1885 ( ) DOI: 10.1002/jsfa.6507
- Левитин М.М., Новожилов К.В., Афанасенко О.С., Михайлов Л.А., Мироненко Н.В., Гагкаева Т.Ю., Ганнибал Ф.Б. Миграции фитопатогенных грибов и ареалы популяций. В кн.: Микология сегодня. Т. 2. М., 2011: 261-274.
- Гагкаева Т.Ю., Гаврилова О.П. Новые виды грибов Fusarium, выявленные на территории России. Мат. Межд. науч. конф., посвященной 150-летию со дня рождения чл.-корр. АН СССР, проф. А.А. Ячевского «Проблемы микологии и фитопатологии в XXI веке». СПб, 2013: 400.
- Christensen C.M., Kaufmann H.H. Storage of cereal grains and their products. 2nd ed. American Association of Cereal Chemists. St. Paul, Minnesota, 1974: 158-192.
- Лаптев Г.Ю., Новикова Н.И., Ильина Л.А., Йылдырым Е.А., Солдатова В.В., Никонов И.Н., Филиппова В.А., Бражник Е.А., Соколова О.Н. Динамика накопления микотоксинов в силосе на разных этапах хранения. Сельскохозяйственная биология, 2014, 6: 123-130 ( ) DOI: 10.15389/agrobiology.2014.6.123rus
- Толпышева Т.Ю. Микотоксины, усниновая кислота и их распределение в лишайниках родов Cetraria, Flavocetraria, Cladonia. Вестник Московского Университета. Серия 16: Биология, 2014, 3: 37-41.
- Girlanda M., Isocrono D., Bianco C., Luppi-Mosca A.M. Two foliose lichens as microfungal ecological niches. Mycologia, 1997, 89(4): 531-536 ( ) DOI: 10.2307/3760987
- Бурдов Л.Г. Мониторинг микотоксинов, профилактика и лечение микотоксикозов в Удмуртской Республике. Канд. дис. Казань, 2013.
- Буркин А.А., Кононенко Г.П. Контаминация микотоксинами луговых трав в европейской части России. Сельскохозяйственная биология, 2015, 50(4): 503-512 ( ) DOI: 10.15389/agrobiology.2015.4.503rus
- Лаптев Г.Ю., Новикова Н.И., Дубровина Е.Г., Ильина Л.А., Йылдырым Е.А., Филиппова В.А., Никонов И.Н., Бражник Е.А. Анализ накопления микотоксинов в кормовом растительном сырье и силосе. Кормопроизводство, 2014, 10: 35-39.
- Boudra H., Morgavi D.P. Reduction in fusarium toxin levels in corn silage with low dry matter and storage time. J. Agr. Food Chem., 2008, 56(12): 4523-4528 ( ) DOI: 10.1021/jf800267k
- Mansfield M.A., Jones A.D., Kuldau G.A. Contamination of fresh and ensiled maize by multiple Penicillium mycotoxins. Phytopathology, 2008, 98(3): 330-336 ( ) DOI: 10.1094/PHYTO-98-3-0330
- Teller R.S., Schmidt R.J., Whitlow L.W., Kung L. Jr. Effect of physical damage to ears of corn before harvest and treatment with various additives on the concentration of mycotoxins, silage fermentation, and aerobic stability of corn silage. J. Dairy Sci., 2012, 95(3): 1428-1436 ( ) DOI: 10.3168/jds.2011-4610
- Watanabe I., Kakishima M., Adachi Y., Nakajima H. Potential mycotoxin productivity of Alternaria alternata isolated from garden trees. Mycotoxins, 2007, 57(1): 3-9 ( ) DOI: 10.2520/myco.57.3