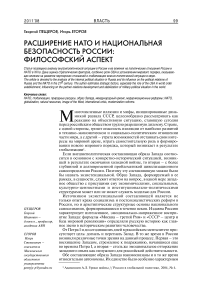Расширение НАТО и национальная безопасность России: философский аспект
Автор: Пещеров Георгий Иванович, Егоров Игорь Степанович
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Миропорядок
Статья в выпуске: 8, 2011 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена анализу внутриполитической ситуации в России и ее влияния на политические отношения России и НАТО в ХХI в. Дана оценка стратегических факторов, особенно роли США в установлении мирового порядка, оказывающих влияние на развитие партнерских отношений и стабилизацию военно-политической ситуации в мире.
Глобализация, природные ресурсы, образ запада, международный кризис, модернизационные реформы
Короткий адрес: https://sciup.org/170165988
IDR: 170165988
Текст научной статьи Расширение НАТО и национальная безопасность России: философский аспект
М ногочисленные иллюзии и мифы, инициированные динамикой развала СССР, целесообразно рассматривать как реакцию на объективную ситуацию, ставящую сегодня перед российским обществом трудно разрешимую дилемму. Стране, с одной стороны, грозит опасность изоляции от наиболее развитой в технико-экономическом и социально-политическом отношении части мира, а с другой – утрата возможностей отстаивать свои интересы на мировой арене, играть самостоятельную роль в формировании нового мирового порядка, который возникает в результате глобализации1.
Если внешнеполитическая составляющая образа Запада соотносится в основном с конкретно-исторической ситуацией, возникшей в результате окончания холодной войны, то вторая – с более глубинной и долговременной проблематикой цивилизационного самоопределения России. Поэтому эту составляющую можно было бы назвать экзистенциальной. Образ Запада, формируемый в ее рамках, в сущности, служит ответом на вопрос, в какой мере западное общество с присущими ему экономическими, социальными, культурно-ценностными и институционально-политическими структурами может или не может служить моделью для России.
ПЕЩЕРОВ Георгий
Иванович – д.воен.н., профессор, академик АВН
Источником экзистенциальной составляющей является не только опыт краха социализма и постсоциалистических реформ в России, но и архетипические структурные основы национального самосознания, формировавшиеся в течение веков. Издавна Россию характеризует интенсивное, эмоционально-напряженное восприятие Запада: формулы «Москва – третий Рим» и «СССР – центр и база мировой революции» определяли русскую историю как главное звено в историческом развитии человечества.
От Петра I и до сегодняшних дней в российском менталитете присутствует цель: догнать и перегнать Запад. В то же время в России возникли различные точки зрения на данный процесс. Первая – это восхищение Западом, стремление к подражанию, начавшиеся еще во времена Петра I, а вторая – столь же эмоциональное отторжение западного опыта как ненужного для российской действительности.
Обе составляющие образа Запада взаимосвязаны и в то же время относительно автономны. Их единство было особенно характерным для первого этапа либеральных реформ – предполагалось, что, если Россия стремится стать обществом западного типа, она должна быть вместе с Западом на международной арене. Однако реально Запад сторонится России, и этому есть вполне обоснованные причины: исторические, культурно-ценностные и др.
С ухудшением российско-американских и российско-натовских отношений эта связь несколько нарушилась, и ориентация на западную модель проявила себя как относительно самостоятельная и более устойчивая установка части российского социума.
В недавних опросах ФОМа эта установка выразилась в разделяемом почти половиной респондентов (48%) мнении о более справедливом устройстве американского общества по сравнению с российским, в то время как противоположную точку зрения высказали почти в три раза меньше опрошенных – 17%1.
Сформировавшийся в СССР антиамериканский комплекс хотя и немного ослаб, но продолжает существовать в современной России. Причина тому – продолжающееся противоборство США и России и угроза национальной безопасности России. В его основе – чувство некоторого унижения, испытываемого из-за ослабления позиций России на международной арене, а его содержательное наполнение – представления о враждебности западной политики российским интересам.
После международного кризиса, вызванного событиями вокруг Югославии, продолжает осуществляться расширение НАТО на Восток, обострился конфликт между Россией и западными странами в связи с возобновлением военных действий в Чечне, были озвучены неприемлемые для России планы новой американской администрации, направленные на создание национальной системы ПРО и отказ от договора 1972 г., провозглашена линия на ужесточение политики Вашингтона по отношению к России. Действия НАТО последних лет (Косово, Македония, Ливия и др.) вновь подтвердили, что она игнорирует российские позиции по всем международным проблемам2. В этих условиях в российском общественном мнении продолжает преобладать ориентация на негативное отношение к Западу, в т.ч. к США.
В настоящее время значение внешнеполитического прагматизма можно определить так: хотя Запад, и особенно США, возможно, угрожают интересам России, эту угрозу, учитывая реальное соотношение сил, лучше попытаться устранить, заинтересовав Запад во взаимовыгодном сотрудничестве с Россией, чем обрекать себя на разорительное и рискованное военно-политическое противостояние. Такая прагматическая ориентация предполагает наличие соответствующих представлений как об интересах Запада, так и о приоритетах российской политической стратегии, о соотношении в ней «внутренних» и «внешних» задач.
В российском обществе имеются люди и группы, занимающие последовательно прагматическую антиконфронтацион-ную и антимилитаристскую, а то и прозападную позицию, и такие, кто очевидно враждебен к Западу. Психологически такое сочетание объяснимо: к враждебности к Западу подталкивает уязвленное чувство национального самолюбия, подпитываемое реальными фактами западной политики, к прагматизму – рациональная рефлексия о возможностях и интересах России3. Эмоции не стыкуются с рациональной рефлексией, располагаются в разных плоскостях. Между тем, российская внешняя политика нередко воспроизводит эту дихотомию, колеблясь между попытками найти решение сложных проблем и избежать конфронтации и всплесками эмоций (например, угроза принятия «адекватных мер» в ответ на действия западных партнеров).
Несомненно, внешняя политика любой демократической страны вырабатывается с учетом общественного мнения. Но вместе с тем проводящая ее власть имеет, особенно в данной сфере, мощные рычаги влияния на общественное мнение. Например, опасения, вызванные в российском обществе американскими планами новой системы ПРО, стимулировались крайне негатив- ной алармистской позицией военных и российского руководства.
Вопрос «чего хочет партнер?» представляется ключевым для выработки внешнеполитического курса. Отсутствие четкого ответа на этот вопрос у обеих сторон – одна из главных причин трудностей и колебаний в развитии российско-американских и российско-натовских отношений. Россия для западного истеблишмента и социума – непредсказуемая страна, и эта непредсказуемость питает многообразие тенденций в отношении к ней – от ориентированных на помощь и сотрудничество (выраженных, например, в позициях Дж. Сороса) до жестко анти-российской позиции (З. Бжезинский и Г. Киссинджер). А это многообразие, в свою очередь, способствует неоднозначному восприятию западной политики в российском обществе1.
Европейскую ориентацию российского массового сознания вряд ли правильно объяснять только внешнеполитическими представлениями россиян (США, в отличие от Западной Европы, – антагонист России), географической близостью, культурными и историческими реминисценциями. Не меньшее значение имеет экзистенциальная составляющая образа Запада: в ее рамках западный опыт достаточно четко дифференцируется на американский и европейский, и последний признается значительно более адекватным запросам российского социума.
Один из парадоксов отношения россиян к западному опыту – несоответствие между его привлекательностью (особенно в западноевропейском варианте) и массовыми представлениями об оптимальном пути развития России. Данные опросов по проблеме «выбора пути» весьма противоречивы и часто не совпадают друг с другом, но все же позволяют констатировать рост в последние годы тенденции к отторжению западной модели и предпочтению особого русского пути, содержание которого остается, впрочем, крайне неясным.
В этой тенденции, очевидно, проявилось влияние внешнеполитической составляющей на экзистенциальную. Не меньшее значение, как нам кажется, имеет пред- ставление о неприемлемости «западного пути», невозможности его реализации в условиях России. Похоже, комплекс национальной неполноценности, неверие в силы и возможности страны, усиленные затянувшимся кризисом и неудачами модернизационных реформ, являются социально-психологическим фактором, во многом определяющим и отношение российского общественного мнения к западному опыту, и его представления о перспективах развития самой России.
Проблема для нашей страны заключается в том, что на протяжении длительного периода времени складывалась ситуация, при которой с одной стороны была Россия, а с другой – практически весь остальной мир. Сегодня Россия готова действовать в рамках международных процедур и правил, в рамках цивилизованного общения для достижения общих целей. Россия в силу своего геополитического положения, будучи европейской страной, намерена проводить взвешенную политику и на Востоке, и на Западе. Вопрос только в том, готов ли Запад?
Однако обширные географические размеры не позволяют России отходить от своих геополитических устремлений.
Поэтому стратегическое условие устойчивости страны – выявление и сохранение общественной идентичности, важнейшей составляющей которой является самоидентификация общества как некоторого целого, отделенного от остального мира. Принципиально важна именно общественная, а не национальная самоидентификация, т.к. Россия – многонациональная страна, для которой укрепление национальной идентичности означает движение к распаду.
Устойчивая самоидентификация общества важна и потому, что сохраняет его культурную особенность, защищающую его от ведущейся через мировое информационное пространство корректировки сознания людей в интересах более развитых стран. Именно поэтому для развития и даже самого существования общества критическое значение имеет наличие национальной (общественной) идеи, поскольку она объединяет людей в единое целое для решения как государственных, так и мировых задач в аспекте глобализации человечества.