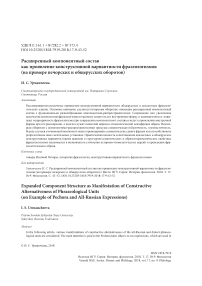Расширенный компонентный состав как проявление конструктивной вариантности фразеологизмов (на примере печорских и общерусских оборотов)
Автор: Урманчеева Ирина Серафимовна
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Языкознание
Статья в выпуске: 9 т.17, 2018 года.
Бесплатный доступ
Рассматриваются различные проявления конструктивной вариантности общерусских и диалектных фразеологических единиц. Основное внимание уделяется печорским оборотам, имеющим расширенный компонентный состав с функционально разнообразными компонентами-распространителями. Сокращение или увеличение количества компонентов фразеологизма по-разному влияет на его внутреннюю форму и идиоматичность: повышает непрозрачность фразеологизма при сокращении компонентного состава и ведет к прояснению внутренней формы при его расширении, а иногда служит попыткой народно-этимологической дешифровки образа. Некоторым оборотам с компонентами-распространителями присуща семантическая избыточность, плеонастичность. В ряде случаев уточняющий компонент может провоцировать семантические сдвиги фразем или способствовать репрезентации иных ментальных установок. Практическая ценность сопоставления диалектных и общерусских конструктивных вариантов (кроме выводов о структурно-семантических и образно-прагматических свойствах фразеологизмов) заключается в возможности уточнения историко-этимологических версий и прояснения фразеологического образа.
Говоры низовой печоры, печорская фразеология, конструктивная вариантность фразеологизмов
Короткий адрес: https://sciup.org/147220023
IDR: 147220023 | УДК: 811.161.1 | DOI: 10.25205/1818-7919-2018-17-9-43-52
Текст научной статьи Расширенный компонентный состав как проявление конструктивной вариантности фразеологизмов (на примере печорских и общерусских оборотов)
Urmancheeva I. S. Expanded Component Structure as Manifestation of Constructive Alternativeness of Phraseological Units (on Example of Pechora and All-Russian Expressions). Vestnik NSU. Series: History and Philology , 2018, vol. 17, no. 9: Philology, p. 43–52. (in Russ.) DOI 10.25205/1818-7919-2018-17-9-43-52
Конструктивные варианты общерусских фразеологических единиц (ФЕ) в говорах Низовой Печоры характеризуются определенным разнообразием. Это и конструкции, которые соотносятся как полный и краткий варианты, обладающие ритмико-рифмической стройностью ( что бог послал, то и на стол настлал – общерус. что бог послал ; язык без кости, мелет напро-сти – общерус. язык без костей и др.) или усложняющие фразеологический образ антитезой, градацией, синтаксическим параллелизмом, каламбуром, абсурдом и другими средствами выразительности ( старый конь борозды не испортит, но и глубоко не вспашет – общерус. старый конь борозды не испортит ; на сердитых воду возят, на горячих хлеб пекут – общерус. на сердитых воду возят и др.).
Конструктивная вариантность осложняется разного рода другими несоответствиями: заменой отдельных лексем ( ласковое дитя две матки сосёт, а постылое ни одной не видит – общерус. ласковое теля две матки сосёт ) или целых конструктивных частей ( любишь кататься – саночки волочи – общерус. любишь кататься, люби и саночки возить ; любовь не картошка – не рассадишь по грядкам – общерус. любовь не картошка, не выбросишь в окошко ); грамматическими отличиями ( остёр на язык, а к делу не привык – общерус. острый язык ).
Вариантность фразеологических единиц признается многими учеными. А. И. Молотков различает варьирование компонентов по форме (формальные варианты), по составу (лексические варианты) и варьирование компонентов по составу и по форме [Молотков, 1977. С. 69–86]. В. М. Мокиенко рассматривает формальное и лексическое варьирование [Мокиенко, 1989. С. 29–37]. В. П. Жуков и А. В. Жуков выделяют фонетические, словообразовательные, лексические, морфологические, видовые и конструктивные варианты [Жуков и др, 2006. С. 179– 191].
Проблема вариантности в диалектной речи «получает весьма широкие возможности для интерпретации, поскольку вариантами могут быть и фразеологизмы отдельных говоров по отношению к общенародным оборотам, и фразеологизмы одного говора относительно сочетаний других говоров» [Мокиенко, 1989. С. 23–24]. ФЕ, известные общенародному языку, но структурно и семантически трансформированные в диалектной речи, т. е. выступающие как варианты на фонетическом, лексическом, словообразовательном, морфологическом, синтаксическом уровнях, приводятся в словаре «Человек в русской диалектной фразеологии» М. А. Алексеенко, Т. П. Белоусовой, О. И. Литвинниковой [Алексеенко и др., 2004]. Описывая фразеологические единицы русских говоров Республики Коми, к числу которых относятся и печорские говоры, И. А. Кобелева выделяет ФЕ, которые не отличаются от общенародных фразеологизмов, обороты, соотносящиеся с общерусскими фразеологическими единицами, но отличающиеся от них по некоторым параметрам, и ФЕ, не известные литературному языку [Кобелева, 1999. С. 8–12]. Отметим также, что в предисловии к «Фразеологическому словарю русских говоров Нижней Печоры» Н. А. Ставшина приводит несколько примеров несовпадения общенародных и диалектных фразеологизмов, таких как ни рожей ни кожей, плетью обуха не прошибёшь, синее море по колено и др. [ФСРГНП. Т. I. С. 10-12], отмечая тем самым актуальность их детального сравнения.
Цель данного исследования – сопоставление таких конструктивных вариантов ФЕ, которые в говорах Низовой Печоры имеют расширенный компонентный состав по сравнению с общерусскими фразеологизмами и паремиями. Подобные расширения могли появиться во фразеологизмах как результат окказионально-диалектного употребления с целью повышения экспрессивности оборота, народно-этимологического уточнения образа, конкретизации семантики и сужения адресной направленности в условиях частной коммуникативной ситуации. Поэтому есть вероятность, что подобные расширения носят окказиональный, а не узуальный характер. Тем не менее все рассматриваемые печорские устойчивые обороты зафиксированы во «Фразеологическом словаре русских говоров Нижней Печоры» и подтверждены многократными примерами употребления. Возможна и обратная ситуация, когда существовавший ранее расширенный вариант впоследствии подвергся редукции в литературном языке, но сохранился в диалекте. Не исключено сосуществование расширенного и краткого вариантов в одном временном срезе на разных территориях. Вопросы первичности / вторичности краткого и полного конструктивных вариантов в статье не затрагиваются, поскольку их невозможно решать без сопоставления всех территориальных вариантов устойчивых оборотов. Тем не менее необходимо отметить, что исходным может быть как краткий, так и расширенный вариант фразеологизма. Во-первых, может наблюдаться «сжатие» (термин В. М. Мокиенко) фразеологической единицы. «В процессе утраты компонентов фразеологизма происходит все большее затемнение его внутренней формы, утрачиваются последние “намеки” на первоначальную мотивировку» [Мо-киенко, 1989. С. 120]. Во-вторых, может происходить противоположный процесс – «развертывание» контекста. «Вклинивание» является средством повышения экспрессивности фразеологизмов при сохранении общего фразеологического значения [Там же. С. 149]. Отметим также, что ФЕ, имеющие расширенный компонентный состав, рассматриваются как конструктивные варианты [Жуков и др., 2006. С. 181] или как полная и сокращенная разновидности [Шанский, 1985. С. 50–51]. Н. Ф. Алефиренко называет их квантитативными (по количеству слов-компонентов; от лат. quantum ‘сколько’): кривой как ( турецкая ) сабля и др. [Алефиренко и др., 2009. С. 74], а И. А. Кобелева – количественными [Кобелева, 1999. С. 11].
В статье не утверждается уникальность печорских оборотов, а только констатируется факт их употребления в говорах Низовой Печоры (речи коренных русских жителей поселений, расположенных по реке Печоре и ее притокам Пижме, Цильме и Нерице). Употребляемые в печорских говорах фразеологизмы всех типов – и общенародные, и соотносящиеся с общерусскими устойчивыми оборотами, но отличающиеся от них, и не известные литературному языку – еще мало изучены. Отдельные примеры таких ФЕ приводятся в работе Л. А. Иваш- ко [Ивашко, 1981]. Фразеологизмам русских говоров Республики Коми (не только печорским) посвящены работы И. А. Кобелевой (см., например: [Кобелева, 1999, 2004, 2011]). Печорская фразеология представлена в словаре Н. А. Ставшиной [ФСРГНП, 2008]. Фразеологической вариантности общерусских и печорских оборотов посвящено более 10 публикаций автора настоящей статьи.
Компоненты-расширения выполняют во ФЕ определительную, обстоятельственную или объектно-дополнительную функции. Несколько сложнее решается вопрос с включением / невключением в состав фразеологизма компонента-глагола. Лексемы-определения (слова, связанные с одним из компонентов ФЕ по принципу согласования) – наиболее распространенный вариант расширения ФЕ. Как правило, это прилагательные, но встречаются также причастия, порядковые числительные, притяжательные местоимения.
Некоторые определения в составе устойчивых оборотов могут показаться избыточными: они реализуют традиционную сочетаемость компонента-существительного, его типичную дистрибуцию, стандартные синтагматические отношения. Например, печорское выражение синее море по колено [ФСРГНП. Т. II. С. 286] и общерусское море по колено ; не сладкий мёд [Там же. Т. II. С. 96] – общерус. не мёд . Определения синее , сладкий не меняют семантики устойчивых оборотов, но по-разному влияют на них. В разговорном фразеологизме море по колено компонент море десемантизируется и выступает в качестве эталона очень глубокого водного пространства (ср. не говорится озеро / река / пруд по колено ). Создается парадоксальный образ несоответствия размеров человека масштабам и глубине моря. Подобные фразеологизмы относят к фраземам-литотам [Алефиренко и др., 2009. С. 190], которые создают красочное изображение денотативной ситуации и передают морально-оценочную интерпретацию действительности [Там же. С. 189]. Прилагательное синее в диалектном обороте частично размывает эталонность и символичность компонента море , снижая идиоматичность оборота в целом; при этом «освежает» образную основу фразеологизма, не меняя ее. Фразеологизм синее море по колено зафиксирован также в селе Летка Прилузского района Республики Коми [Кобелева, 2004. С. 236] (говор этого села не относится к печорским).
В разговорном общерусском обороте не мёд реализуются потенциальные семы компонента мёд ‘приятное, хорошее, приносящее удовольствие’. Прилагательное сладкий усиливает эти коннотации идентичными потенциальными семами. В печорском обороте не сладкий мёд положительные семы удваиваются, создавая оценочный плеоназм. Такая же тавтологичность присуща обороту незваный да нежданный гость хуже татарина [ФСРГНП. Т. II. С. 105] (ср. общерус. незваный гость хуже татарина ). Квазисинонимия определений незваный и нежданный повышает экспрессивность оборота, придаёт ему новое звучание в результате обогащения фразеологизма новыми смысловыми оттенками.
В общерусском фразеологизме выйти в люди компонент в люди , употребляющийся без уточняющих определений, следует понимать как ‘достойный, порядочный, уважаемый человек’: как известно, все положительное считается нормой и не нуждается в экспликации. Печорский фразеологизм в добрые люди выйти [Там же. Т. I. С. 70] выражает тот же смысл ‘достойный, порядочный человек’ дискретно, посредством прилагательного добрые .
В некоторых ФЕ определения уточняют, конкретизируют образ. Сравним общерусский оборот в семье не без урода и печорские сходные выражения в большой семье не без урода [Там же. Т. I. С. 63] и в худом роду не без урода, а в богатом два да три [Там же. Т. I. С. 114]. Семьи в старину были большими, включали родственников нескольких поколений, поэтому определение в большой было избыточным, но объективным: если семья маленькая, неужели и в ней есть свой «урод»? Диалектный фразеологизм эксплицирует то, что имплицитно представлено в общерусской поговорке. Это подтверждается и метаязыковым комментарием диа- лектоносителей-устьцилемов: В большом роду не без урода: в большой-то семье детей много, кто-то может быть пьяница, или ленивый, или больной с детства; Шестеро у них, да Колька пьёт, цёйно, в большой семье не без урода [Там же]. В современной коммуникативной ситуации в условиях малочисленности семей уточняющее определение большой не звучит тавтологично, как это могло быть изначально, при возникновении этимологического образа. Только в большом, худом и богатом роду могут быть изъяны. Интересны ментальные установки диалектной пословицы в худом роду не без урода, а в богатом два да три. Негативное оценочное прилагательное худой противопоставлено нейтральному богатый, которое в противительной конструкции насыщается отрицательными коннотациями. Определения в худом, в богатом снимают обобщенно-обезличенную семантику ФЕ и в градуированном виде передают пейоративное отношение печорцев, а может быть и всех русских, к богатым. Общеупотребительная устойчивая фраза в семье не без урода имеет также обобщенное толкование: ‘в коллективе всегда есть кто-либо, отличающийся от других какими-либо (чаще дурными) качествами’ [Жуков, 2002. С. 61], однако такое расширительное понимание выражения, транслирующего семейные ценности, не распространено на ограниченной территории с небольшим населением.
В говорах Низовой Печоры употребляется фразеологизм за словом в чужой карман не лезть ( полезть, ползать ) [ФСРГНП. Т. I. С. 248] (ср. общерус. за словом в карман не лезет ( лазит, полезет )): Эта на кажно слово ответит, за словом в чужой карман не лезет ; Парашка-то у нас языката была, за словом в чужой карман не ползала [Там же] . Этимологи дают следующее объяснение фразеологического образа общерусского оборота: карман – ‘мешочек или торбочка, прикрепленная к поясу или одежде снаружи’; лезть в такой карман было труднее, чем в современные карманы: для этого нужно было предварительно развязать шнурок, затягивающий торбочку [Бирих и др., 2007. С. 645]. Этимологическая версия предлагает трактовать образ следующим образом: за словом в карман (мешочек) лезть трудно, но находчивый в разговоре человек в этом не нуждается. Слово, которое «хранится» в «кармане-мешочке», приравнивается к деньгам, богатству. Определение в чужой , устойчиво употребляющееся в составе ФЕ в говорах Низовой Печоры, – либо результат народноэтимологической трактовки образа, либо утратившийся элемент, позволяющий иначе истолковать первоначальный фразеологический образ. В таком случае находчивость человека в разговоре, отсутствие стеснительности и умение дать отпор освобождает его не от необходимости развязывать свой карман-мешочек, а от необходимости заимствовать, «занимать», «красть» у других.
Современные носители языка воспринимают компонентный состав междиалектных вариантов фразеологических единиц как идентичный. Каждый компонент ФЕ понимается как слово, частично или полностью десемантизированное. И лишь уточняющие определения помогают распознать в составе устойчивых оборотов междиалектные омонимы или полисеманты. В общеизвестной пословице закон что дышло: куда повернул ( повернёшь ) , туда и вышло компонент дышло традиционно толкуется как ‘оглобля между двумя лошадьми, прикрепляемая к передней оси какой-либо повозки в парной запряжке’ [МАС. Т. I. С. 459]. Печорское устойчивое выражение законы как косилочное дышло: куда повернёшь, туда и вышло [ФСРГНП. Т. I. С. 256] имеет в своем составе определение косилочное , т. е. предназначенное для косьбы [СРГНП. Т. I. С. 338], которое позволяет усомниться в отношении компонента дышло к денотатам, связанным с повозками и лошадьми. И действительно, в говорах Низовой Печоры слово дышло означает ‘часть сохи - стержень, прикрепляющий соху к оглобле’ [СРГНП. Т. I. С. 196]. Возможно, это попытка народно-этимологического толкования лексико-семантического диалектизма дышло , его дифференциации с помощью уточняющего определения.
В условиях устного нормирования, свойственного территориальным диалектам, отдельные ФЕ ведут себя как фразеосхемы, т. е. имеют ситуативно обусловленную расширитель- ную часть: Нигдель не работат, сё окорока толстит, сидит на материной шее; Пьяница он, да и дочи пьёт, вот и сидят на родительской шее; На отцовской шее сидит, нигде не ра-ботат; Ой, у бабков как они добывают пенсии, на бабкиной шее сидят [ФСРГНП. Т. II. С. 28]. Варьируемые лексемы материной / материнской / мамкиной / родительской / отцовской / бабкиной следует отнести к факультативным компонентам, формирующим незамкнутое множество семантически и ассоциативно близких определений. Притяжательность в подобных фразеосхемах является определяющим фактором. По этой же модели создаются расширенные ФЕ с варьируемыми притяжательными местоимениями: Кричит: ты на моих хлебах живёшь!; Я ешшо не на твоих хлебах живу; Я на её хлебах живу [Там же. Т. II. С. 29]. Включение уточняющих определений в состав фразеологизмов в диалектной коммуникации неизбежно влечет снижение идиоматичности ФЕ.
Плеонастично звучит фразеологизм своя охота пуще неволи [Там же. Т. II. С. 278] с притяжательным местоимением своя . Он, как и общерусский оборот охота пуще неволи , употребляется в ситуации, когда кто-либо берется за что-то сложное, трудное не по необходимости, а по желанию [Жуков, 2002. С. 243], когда желание порабощает человека. Такая семантика поддерживается избыточным местоимением свой : именно собственное желание приравнивается к несвободе и принуждению.
Снижение идиоматичности и повышение прозрачности образа наблюдается в печорском фразеологизме подающая рука не оскудеет [ФСРГНП. Т. II. С. 192] за счет употребления в составе ФЕ определения-причастия подающая (ср. устар. общерус. рука не оскудевает ‘о том, кто щедр на подаяния’ [Федоров, 2008. С. 580]). Незначительные формальные отличия глагольных компонентов привносят в сопоставляемые обороты едва различимые семантические нюансы. Форма настоящего времени глагольного компонента во ФЕ рука не оскудевает придает фразе констатирующий и характеризующий оттенок: кому-то свойственна щедрость – и это лишь факт. Форма будущего времени глагольного компонента во ФЕ подающая рука не оскудеет в совокупности с уточняющим определением позволяет воспринять фразу как философско-христианскую сентенцию о неисчерпаемости ресурсов щедрого человека, заверение в неистощимости его материальных благ: Всегда надо ведь руку растянуть, милостыньку дать, подающая рука не оскудеет [Там же] .
Включение в состав ФЕ уточняющего определения способствует обновлению образа, появлению новых значений. Так, печорский оборот как курица с первым яйцом носиться [Там же. Т. I. С. 314] может употребляться в традиционном смысле ‘уделять излишне много внимания чему-либо’ аналогично общеизвестному выражению как курица с яйцом . В этом случае «вклинивание» как вид эксплицирования фразеологизма является средством повышения его экспрессивности при сохранении общего фразеологического значения. Дополнительный компонент делает образ фразеологизма более конкретным, описательным (точнее, живописным) [Мокиенко, 1989. С. 148‒149]. Но в то же время порядковое числительное первый не может не вносить дополнительного смыслового оттенка, который у печорского фразеологизма появляется: Первый ребёнок, дак дрожит над ним, трясётся, как курица с первым яйцом носится ; Лена-то над младенцем трясётся, как курица с первым яйцом [Там же] .
Определения наиболее часто выступают в качестве распространяющих фразеологический оборот компонентов. В роли уточняющих присловных компонентов, расширяющих границы фразеологизма, в говорах Низовой Печоры выступают также слова, связанные с одним из компонентов ФЕ по принципу управления. Распространители-дополнения или обстоятельства, как и определения, вводятся в состав ФЕ с разными целями. Локативный распространитель до неба гиперболизирует фразеологический образ в печорском обороте нос до неба задрать [Там же. Т. II. С. 126] (ср. общерус. задрать нос). Стереотипно-символическое указание на наи- высшую точку пространственного континуума до неба, свойственное «наивной географии», усиливает эмоционально-оценочную составляющую печорского оборота. Включение в диалектный фразеологизм креста <на вороте (вороту)> нет [Там же. Т. I. С. 367] (ср. общерус. креста нет) предметно-вещного уточняющего компонента на вороте (вороту) основано на символической способности наименований одежды выступать в заместительной функции, обозначать части человеческого тела и посредством синекдохи – всего человека.
Уточняющие определения и обстоятельства могут одновременно распространять ФЕ. При этом между печорским и общерусским фразеологизмами сохраняется идентичная образность, воплощенная семантически сходными, но разными компонентами. Отличия наблюдаются и в тональности репрезентации образа: меткости и емкости литературной поговорки противопоставляется размеренность и степенность диалектной: общерус. на ловца и зверь бежит vs. печор. на счастливого охотника зверь сквозь землю идет [Там же. Т. II. С. 52]. Иной компонентный состав печорского оборота обусловливает его употребление в непереинтерпрети-рованном виде: На счастливого охотника зверь сквозь землю идет , он пустой лузець домой не нашивал, отець-то наш [Там же] . Внутренняя форма общерусской пословицы подобным образом не актуализирована, степень ее идиоматичности высока: она употребляется в ситуации, когда заинтересованному в чем-либо человеку удачно попадается тот, кого он хотел найти, или то, что ему нужно [Жуков, 2002. С. 185].
Наибольшую сложность вызывает сопоставление печорских ФЕ с дополнительным глагольным компонентом и общерусских устойчивых оборотов без подобного дополнительного компонента. Возникает проблема определения границ фразеологизма с точки зрения необходимости включения в его состав глагольного компонента, который в ряде случаев представляет собой обязательное словесное окружение, но в состав ФЕ не включается. Определение состава компонентов фразеологизма – это всегда определение по существу самого фразеологизма. Любые неточности в этом смысле искажают представление о самом фразеологизме [Молотков, 1977. С. 66].
Варьирование глагольных компонентов, расширяющих границы фразеологизма, ставит вопрос о правомерности их включения в состав фразеологической единицы: Ране ведь ходили в девках недолго: рано выдавали ; Я тогда ешшо в девках была , лет пятнадцать мне было ; Я долго в девках жила , триццяти годов замуж вышла [ФСРГНП. Т. I. С. 201] . Вероятнее всего, в этом случае мы имеем дело не с вариантным диалектным фразеологизмом, распространенным глагольным компонентом, а с иной лексикографической фиксацией устойчивого оборота. Сравним во «Фразеологическом словаре русских говоров Нижней Печоры»: девкой (в девках) ходить (сидеть, жить, быть) [Там же]; во «Фразеологическом словаре русского литературного языка» А. И. Федорова: в девках (прост.) не замужем, незамужней (быть, оставаться) [2008. С. 175]. Значительная свобода варьирования элементов позволяет подозревать, что некоторые словосочетания могут быть описаны как свободные [Баранов и др., 2008. С. 53]. Варьированию нередко подвергаются литературный и диалектный глагольные компоненты, причем такой случай варьирования не должен восприниматься как исключение: Ну уж расхвалили Пашку, аж до небес выздынули ; Так уж её расхваливали, чуть не до небес подняли [ФСР-ГНП. Т. I. С. 213] (ср. общерус. до небес ‘сверх всякой меры, непомерно (расхвалить кого-либо, восторгаться, восхищаться кем-либо и т. п.)’ [Федоров, 2008. С. 401]).
Вариантные глагольные компоненты (общеупотребительный и локальный) закрепляются в печорском фразеологизме во всю ивановскую реветь (одираться) ‘громко кричать’ [ФСР-ГНП. Т. II. С. 10] (ср. общерус. во всю ивановскую ‘очень громко (кричать, орать)’ [Федоров, 2008. С. 263]). Этимология оборота предопределяет его употребление прежде всего с глаголами звучания и речи [Бирих и др., 2007. С. 263], поэтому расширение диалектного фразео- логизма путем включения в его состав «звуковых» глаголов реветь ‘издавать крик’, ‘ругать’, ‘плакать’ [СРГНП. Т. II. С. 217, 218] и одираться ‘кричать во все горло; громко плакать, реветь’ [Там же. Т. I. С. 509] представляется логичным и закономерным. Отметим также, что некоторые этимологи связывают фразеологизм во всю ивановскую с выражением звонить во всю ивановскую, которое буквально значило ‘во все колокола колокольни Ивана Великого в Московском Кремле’ (см. об этом: [Бирих и др., 2007. С. 263]). В печорских говорах сохранился оборот на всю ивановскую растрезвонить со значением ‘рассказать всем, разнести вздорные слухи’ [ФСРГНП. Т. II. С. 9]. Возможно, он восходит к упомянутому выше выражению, сосуществовавшему с выражением кричать во всю ивановскую и вместе с ним ставшему источником общерусского фразеологизма. Но очевидно употребление диалектного оборота с иным значением, чем в литературном языке. Следовательно, можно говорить не только о конструктивном противопоставлении печорских и общерусских фразеологизмов, но и о семантическом.
Семантический сдвиг – возможный, но необязательный результат включения в состав ФЕ дополнительного глагольного компонента. Например, морфолого-конструктивная вариантность общерус. грубо-прост. ни кожи ни рожи и печорского ни рожей ни кожей не выйти [Там же. Т. II. С. 116] не влечет семантических и образных различий. Тем не менее расширение компонентного состава фразеологизма глагольным элементом может сужать или незначительно изменять смысловое содержание устойчивого оборота. Так, общерусский разговорный фразеологизм ни конца ни края имеет обобщенное значение бесконечности, беспредельности, в то время как печорский оборот ни конца ни краю не знать характеризует человека, неуемного в своих действиях, занятиях, поведении, не способного установить границы: Ну, Ваня, ты ни конца ни краю не знашь, пьёшь и пьёшь ; Ну чё ты ходишь ко мне, ни конца ни краю не знашь, иди к другим займоваться [Там же. Т. II. С. 113].
Сопоставительный анализ общерусских и печорских фразеологических единиц позволил выявить компоненты-распространители в составе последних, к числу которых относятся определения, связанные с одним из компонентов ФЕ по принципу согласования, и компоненты, выполняющие обстоятельственные и дополнительные функции и связанные по принципу управления. Вопрос о включении / невключении глагольных компонентов в состав устойчивых оборотов не может быть решен однозначно.
Сокращение числа компонентов фразеологизма ведет к затемнению внутренней формы фразеологизма, к повышению его непрозрачности, тогда как расширение компонентного состава снижает идиоматичность оборота, ведет к прояснению внутренней формы, а иногда служит попыткой народноэтимологической дешифровки образа ( законы как косилочное дышло: куда повернёшь, туда и вышло ) .
Включение компонентов-распространителей является одним из проявлений семантической избыточности, плеонастичности ( синее море по колено, не сладкий мёд, незваный да нежданный гость хуже татарина, своя охота пуще неволи ). Оборотам с компонентами-распространителями присуща семантическая дискретность, противопоставленная семантической конденсации кратких выражений ( в добрые люди выйти ; подающая рука не оскудеет ). Благодаря дополнительным компонентам происходит гиперболизация фразеологического образа, тропе-ическое обыгрывание ( нос до неба задрать, креста на вороте нет ).
Уточняющий компонент нередко провоцирует семантические сдвиги фразем ( за словом в чужой карман не лезть, как курица с первым яйцом носиться, ни конца ни краю не знать ), а иногда способствует репрезентации иных ментальных установок ( в большой семье не без урода и в худом роду не без урода, а в богатом два да три ).
Окказионально-диалектный характер присущ оборотам, которые благодаря компонентам-распространителям уподобляются фразеосхемам ( на материной / материнской / мамкиной / родительской / отцовской / бабкиной шее сидеть ).
Анализ существовавших ранее распространенных вариантов, впоследствии подвергшихся редукции, способствует уточнению историко-этимологических версий и прояснению фразеологического образа ( во всю ивановскую реветь ( одираться ); во всю ивановскую растрезвонить ).
Краткие, емкие общеизвестные варианты фразеологических единиц имеют в диалектном дискурсе узуальные и окказиональные распространенные соответствия, изучение которых расширяет наше представление о фразеологическом составе национального языка.
Список литературы Расширенный компонентный состав как проявление конструктивной вариантности фразеологизмов (на примере печорских и общерусских оборотов)
- Алефиренко Н. Ф., Семененко Н. Н. Фразеология и паремиология: Учеб. пособие. М.: Флинта: Наука, 2009, 344 с.
- Баранов А. Н., Добровольский Д. О. Аспекты теории фразеологии. М.: Знак, 2008, 565 с.
- Жуков В. П., Жуков А. В. Русская фразеология. М.: Высш. шк., 2006, 408 с.
- Ивашко Л. А. Очерки русской диалектной фразеологии. Л.: Изд-во ЛГУ, 1981, 110 с.
- Кобелева И. А. Современная русская диалектная фразеология: лексико-грамматический и лексикографический аспекты: Автореф. дис.. д-ра филол. наук. Сыктывкар, 2011, 39 с.
- Кобелева И. А. Фразеология русских говоров Республики Коми: Учеб. пособие. Сыктывкар: Изд-во Сыктывкар. ун-та, 1999, 84 с.
- Мокиенко В. М. Славянская фразеология. М.: Высш. шк., 1989, 287 с.
- Молотков А. И. Основы фразеологии русского языка. Л.: Наука, 1977, 239 с.
- Урманчеева И. С. Печорские фразеологизмы на фоне общерусских: конструктивные различия // PHILOLOGY. 2017a, № 2 (8), с. 79-82.
- Урманчеева И. С. Ритмико-рифмическая организация как проявление конструктивной вариантности печорских и общерусских фразеологизмов // Вестн. Том. гос. ун-та. Филология. 2017б, № 50, с. 125-134.
- Шанский Н. М. Фразеология современного русского языка. Учеб. пособие. М.: Высш. шк., 1985, 160 с.