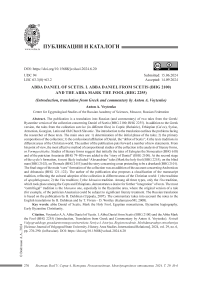Рассказы о Данииле Скитском. I. Даниил Скитский (BHG 2100) и юродивый Марк (BHG 2255) (введение, перевод с греческого и комментарии А.А. Войтенко)
Автор: Войтенко А.А.
Журнал: Вестник ВолГУ. Серия: История. Регионоведение. Международные отношения @hfrir-jvolsu
Рубрика: Публикации и каталоги
Статья в выпуске: 6 т.29, 2024 года.
Бесплатный доступ
Публикация представляет собой комментированный перевод на русский язык двух рассказов из греческой версии сборника Даниила Скитского (BHG 2100; BHG 2255). Помимо греческой версии рассказы из этого сборника сохранились (в разных конфигурациях) на коптском (бохайрский диалект), эфиопском (геэз), сирийском, армянском, грузинском, латинском и церковнославянском языках. Во введении к переводу очерчен круг проблем, стоящих перед исследователем этих текстов. Основные из них: определение начального этапа бытования рассказов, начальный состав сборника, конфессиональная принадлежность «игумена Скита» Даниила, особенности рецепции рассказов сборника в разных регионах христианского мира. Автор публикации выдвигает ряд новых положений. С его точки зрения, наиболее продуктивным методом при рассмотрении истории сборника является анализ литературных форм, или Formgeschichte. Анализ литературных форм позволяет предположить, что изначально к «истории Даниила» (BHG 2100) были присоединены рассказы о Евлогии камнетесе (BHG 618) и патрикии Анастасии (BHG 79-80). На втором этапе формирования цикла в него, скорее всего, были включены «александрийские» рассказы (о юродивом Марке (BHG 2255), о слепце (BHG 2102), о Фомаиде (BHG 2453)) и рассказ о монахине, притворявшейся пьяницей (BHG 2101). Завершающим этапом формирования основного «ядра» сборника было присоединение к нему истории об Андронике и Афанасии (BHG 121-122). Автор также предложил классификацию рукописной традиции, отражающей культурную рецепцию сборника в разных областях христианского мира: 1) традиция апофтегм; 2) «житийная» традиция; 3) традиция миней. Среди всех трех типов только «житийная» традиция, которая имела место у коптов и эфиопов, демонстрирует стремление к дальнейшей «интеграции» текстов. Наиболее центробежной является традиция миней, особенно в Византии, где первоначальная версия рассказа (например, о патрикии Анастасии) могла быть подвержена значительной литературной обработке. Перевод сделан по изданию Б. Далман (Uppsala, 2007). В комментариях учтены примечания к английским переводам Б. Далман и Т. Вивиана - Д. Уортли (Kalamazoo/MI, 2008).
Даниил скитский, юродивый марк, египетское монашество, византийская агиография, ранневизантийское христианство
Короткий адрес: https://sciup.org/149147550
IDR: 149147550 | УДК: 94 | DOI: 10.15688/jvolsu4.2024.6.20
Текст научной статьи Рассказы о Данииле Скитском. I. Даниил Скитский (BHG 2100) и юродивый Марк (BHG 2255) (введение, перевод с греческого и комментарии А.А. Войтенко)
DOI:
Цитирование. Войтенко А. А. Рассказы о Данииле Скитском. I. Даниил Скитский (BHG 2100) и юродивый Марк (BHG 2255) (Введение, перевод с греческого и комментарии А.А. Войтенко) // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 4, История. Регионоведение. Международные отношения. – 2024. – Т. 29, № 6. – С. 276–290. – DOI:
Введение. Цикл рассказов, связанных с «игуменом Скита» Даниилом, стал известен ученому сообществу более века назад, с публикации эфиопской (геэз) версии текста, осуществленной в 1897 г. Л. Голдшмидтом и Ф.М. Эштевешем Перейрой [16]. На сегодняшний день эта традиция известна (в разных текстовых конфигурациях) на греческом, коптском, эфиопском, сирийском, армянском, грузинском, арабском, латинском и церковнославянском языках (см.: [24, p. 1, 8, 104, 130, 182, 209, 244, 263, 270, 272]).
Нельзя сказать, что более чем столетнее знакомство с этими текстами привело ученых к ясному пониманию их происхождения, основных принципов их соединения в одну традицию и особенностей их бытования в разных областях христианского мира. Мы по-прежнему можем, слегка перефразировав слова М. Бонне, назвать сборник Даниила одним из самых загадочных текстов восточного христианства (ср.: [8, p. 166]).
Пожалуй, только в одном вопросе достигнут безусловный научный консенсус: языком оригинала этого сборника был греческий, хотя до сих пор не понятно, можем ли мы однозначно считать, что дошедшая до нас греческая традиция адекватно отражает (и в текстуаль- ном, и в идеологическом плане) самый ранний период существования этого цикла.
Первое издание греческого текста сборника осуществил французский ученый Л. Клю-нье, сначала в журнальных публикациях [9], а потом и отдельной книгой [10]. Это издание можно назвать скорее дипломатическим, чем критическим, хотя оно и содержит аппарат разночтений. Клюнье идентифицировал 11 рассказов (включая варианты) и опубликовал их рукописные и минейные версии. Основой для издания Клюнье послужили рукописи из Парижского собрания (Par. Coisl. 282, Par. Coisl. 283, Par. gr. 914, Par. Suppl. gr. 241 и др.), а также тексты из греческой Минеи, изданной в Венеции в 1895 г. (см.: [11, p. 43–45]). Такой подход вызвал резко негативные отклики его коллеги, М. Бонне, который указал, что публикация, сделанная эдиционно неверно и плохо, самим фактом своего появления мешает попыткам подготовить хорошее издание [8, p. 167] (cр.: [24, p. 5]). Вероятно, столь резкая оценка имела и личные коннотации: раздражение более удачливым конкурентом (Бонне сам занимался сборником Даниила, но так и не смог довести до конца свою публикацию) (см.: [24, p. 298]). Тем не менее в рецензии Бонне содержался ряд ценных замечаний, определивших стратегию дальнейших текстологических исследований сборника (см.: [11, p. 45]).
Текст Клюнье долгое время оставался единственным доступным греческим изданием цикла Даниила и до сих пор не потерял своей ценности для исследования вариативности этих текстов и их последующей эволюции. В 2007 г. Б. Далман предприняла новую публикацию сборника, которую с некоторыми оговорками можно считать критическим изданием [11]. В деле изучения цикла Даниила публикацию Далман можно считать этапной. Из всей рукописной традиции она выделила четыре рукописи (cod. Scor. R II.1 (Revilla 21); Par. gr. 919; Mosq. Syn. gr. 345 (Vlad. 342); Vat. gr. 858), содержащие сборник как часть одной из коллекций Apophthegmata Patrum, представляющих более поздние редакции апофтегм, нежели хорошо известные алфавитно-анонимное и систематическое собрания. С легкой руки Ж.-К. Ги их стали обозначать collections dérivées (см.: [17, p. 201–230]). И именно эту группу текстов, в полном виде представляющую собой 8 рассказов, Далман сочла наиболее ранним и наиболее аутентичным этапом бытования сборника. Но поскольку самая древняя (московская) рукопись с таким собранием датируется X или первой половиной XI в. (см.: [11, p. 92, note 5]), то от предполагаемого времени его создания нас отделяют более четырех столетий, а значит, о самом раннем этапе истории этих текстов можно строить лишь более-менее обоснованные догадки.
Содержание текстов позволяет предполагать, что изначально они возникли отдельно друг от друга и лишь затем были объединены под именем «игумена Скита» и сведены в один сборник. В свое время Ж. Гарритт высказал очень ценную гипотезу о том, что часть рассказов в большей степени имеет отношение к фольклору Александрии, чем к фольклору Скита [13, col. 71]. По сути, эти рассказы (o юродивом Марке, о слепце (BHG 2102), о Фомаиде (BHG 2453)) очень сходны по композиции и могут быть выделены в отдельный блок.
Вопрос о подлинности участия Даниила в историях, объединенных вокруг его имени, рискует, на наш взгляд, довольно быстро превратиться в схоластический спор. Наиболее верным методом исследования здесь является анализ литературных форм (Formgeschichte), отправной точкой для которого может служить предположение, что к рассказу об «игумене Скита» (в греческой традиции – BHG 2100) поэтапно присоединялись другие истории. Основным критерием в данном случае может выступать степень вовлеченности Даниила в сюжетную и композиционную структуру иных, не связанных с его биографией частей. Самую большую степень проникновения Даниила (как персонажа) в ткань рассказа демонстрируют два из них: о Евлогии камнетесе (BHG 618) и о патрикии Анастасии (BHG 79–80). Обе истории содержат одну и ту же сюжетную схему: Даниил и его ученик встречают главного героя повествования, который, как быстро выясняется, является носителем некой тайны. Эту тайну во второй части истории Даниил раскрывает своему ученику, используя прием рассказа в рассказе. Безусловно, в сюжетном построении двух историй есть нюансы: Евлогия они встречают во время путешествия, а Афанасию, выдающую себя за евнуха, ученик посещает регулярно, принося ей кувшин с водой (и т. д.), но на общую схему они не влияют.
Хронологически нелинейное повествование и рассказ в рассказе выдают изначально фольклорную основу этих нарративов. На наш взгляд, именно они должны были самыми первыми присоединиться к собственно истории Даниила. Косвенным подтверждением этого является версия Копто-арабского синаксаря под 8 башанса (см.: [24, p. 124–125]) и, безусловно, происходящая от нее версия Эфиопского синаксаря под 8 гэнбота (см.: [24, p. 155–156]), где только эти две истории ассоциируются с именем Даниила.
Меньшую, хотя и значительную степень вовлечения Даниила в повествование демонстрирует «александрийский» блок и история о монахине, притворившейся пьяницей (BHG 2101). Сюжетная схема рассказов о Марке и о слепце идентична: Даниил с учеником путешествуют, происходит встреча с главным героем, Даниил с учеником следят за ним, открывают его святость (в случае со слепым – через исцеление), происходит чествование героя, его кончина и погребение. Рассказ о притворившейся пьяницей немного отходит от этой схемы: главная героиня, после того как ее святость открыта, не умирает, а тайно покидает монастырь. В случае с Фомаидой события происходят рядом с Александрией и хронологически параллельно с посещением города Даниилом (любопытно, что в эфиопской версии события, связанные с Фомаидой, также происходят в Александрии, а не рядом с ней; см.: [24, p. 140]). Даниил, знающий о святости Фомаиды, велит похоронить ее рядом с монахами, а ее святость открывается через чудо. Такое композиционное построение, при определенных оговорках, стоит достаточно близко к сюжетной схеме остальных рассказов. Действие во всех случаях происходит линейно, только в истории с юродивым мы имеем рассказ в рассказе, но исполнен он не Даниилом, а самим Марком. Следует предположить, что «александрийский» блок и рассказ о «пьяной» монахине были присоединены к циклу позже.
Из всех рассказов, гипотетически представляющих начальную версию цикла, Даниил менее всего вовлечен в повествование об Андронике и Афанасии (BHG 121–122).
Действие протекает линейно и лишено каких-либо флешбэков. Даниил возникает лишь во второй части повествования, являясь второстепенным персонажем, который может быть легко заменен на другого. Давно уже замечено (см.: [23, p. 26]), что сюжетная схема истории Андроника и Афанасии во многом совпадает с коптским «Житием Иларии» [12, p. 1–13, 69–82, 139–148]. Памбо (Памво), второстепенный герой «Жития Иларии», выполняет в рассказе ту же роль, которую и Даниил в истории с Афанасией: он принимает бежавшую из царского дворца аристократку, переодевает ее в мужскую одежду и является тайным свидетелем ее святости. Вероятнее всего, история Андроника была присоединена к циклу позже всех. Одной из причин ее включения могло послужить сюжетное сходство рассказа об Афанасии с историей патрикии Анастасии.
Можно ли установить время складывания основного «ядра» цикла? Только гипотетически, основываясь на некоторых допущениях. Наиболее ранним свидетельством «текста Даниила» является палестино-сирийский палимпсест (с рассказом о Евлогии и фрагментом истории о патрикии Анастасии), который его первый издатель, А. Смит-Льюис, датирует VII в. [21, p. IX–X]. Рассказы о Евлогии и Анастасии имеют надежные хронологические «реперы», позволяющие отнести время появления известных нам их редакций ко времени не ранее правления Юстиниана (527–565), а в коптской и эфиопской версии указано, что время кончины Даниила приходится на по-стюстинианово время. Таким образом, «ядро» цикла могло быть сформировано довольно быстро: в последние десятилетия VI века.
Два рассказа, которые, помимо уже обозначенных, были включены Л. Клюнье в цикл Даниила, с точки зрения «формального» анализа стоят от него еще дальше. Изданная версия истории о монахе, ложно обвиненном в воровстве (BHG 2101a) [10, p. 64–68], представляет собой «матрешку» (ср. BHG 2021b–c). Она вводится фразой «рассказал авва Даниил, что» (διηγήσατο ὁ ἀββᾶς Δανιὴλ ὅτι) после чего следует повествование от лица аввы Дулы, вводимое глагольной формой φησὶν. Заглавие рассказа в рукописи (Ἑπὶ τοῦ ἀββᾶ Δουλᾶ) [10, p. 64], не оставляет сомнений в том, что изначально он был атрибутирован Дуле и лишь после, с помощью нехитрой вводной «надстройки», оказался переатрибутирован-ным Даниилу. Рассказ о монахе и двух бесах (BHG 2102a) [10, p. 1–2] вводится фразой διηγήσατο ὁ ἀββᾶς Δανιὴλ ὁ σκητιώτης ὅτι [10, p. 1]. Подобная формула встречается в сборнике апофтегм другого Даниила, подвижника из Скита V в. и ученика аввы Арсения. Исходя из этого, можно полагать, что присоединение этого рассказа к циклу Даниила, по сути, случайно. Еще один рассказ (о монахе и его сестре) сохранился в краткой (BHG 2102e) и пространной (BHG 1438h, 1438hb) версиях (ср.: [24, p. 87–90]). В краткой версии монаха зовут Даниил [11, p. 52], остальные версии не имеют отношения к «игумену Скита», и лишь в сирийском тексте рассказ получает такую формальную атрибуцию через вводную «надстройку» (см.: [24, p. 202]).
Существует ли некая идея, благодаря которой рассказы были объединены в один цикл? П. ван Кавенберг отвечал отрицательно, утверждая, что это – «собрание бессвязных анекдотов» [23, p. 27]. Тем не менее он, наряду с Л. Клюнье, Х. Эвелином Уайтом, Ж. Грос-сдидье де Матоном соглашался, что Даниил во всех текстах сборника обладает исключительным даром проницательности (см.: [11, p. 70]). Б. Далман выделила четыре основные темы (themes) или мотива (motives) цикла: 1) тайная святость; 2) юродство; 3) ξενιτεία; 4) девиантное поведение (по большей части, переодевание женщин в мужскую одежду) [11, p. 70]. С ее точки зрения, основным мотивом, объединяющим весь цикл, является первый [11, p. 70–89]. Близко к ней оказывается и Т. Вивиан, полагающий, что функция Даниила – это роль свидетеля святости (сommunicator of holiness) [24, p. 39–40]. Далман указывает на евангельские обоснования этого феномена (Мф 16: 20; Мф 6: 16; Мк 1: 44) [11, p. 88], забывая, правда, при этом упомянуть, что тайная святость находится в сложных отношениях с другим известным евангельским высказыванием (Мф 5: 15).
Версия Б. Далман является на сегодняшний день самой правдоподобной, хотя и нуждается в уточнении. Если воспользоваться аналогией из лингвистики, то можно сказать так: Даниил – это «детерминатив» тайной святости. Его функция (если продолжить евангельскую аллегорию) заключается в том, чтобы поставить горящую свечу на подсвечник, диалектически «сняв» оппозицию между тайным слугой Божиим и необходимостью его прославления. Его роль чем-то напоминает функцию второго главного персонажа из «житий-путешествий» (Житие св. Онуфрия Великого, Житие св. Марии Египетской и др.), который посещает дальнюю пустыню и тем самым делает известными подвиги отшельников, подвизающихся в ней. Именно этим можно объяснить формальное присоединение к циклу некоторых рассказов (например, BHG 2101a): рассказ переатрибутирован Даниилу как «детерминативу» святости невинно пострадавшего монаха.
Можно ли каким-то образом описать жанровое своеобразие цикла? Относительно недавние исследования дают для этого основания. Оттолкнувшись от греческого обозначения (διήγησις/διήγημα) их можно назвать «агиографическими рассказами». Принятое в современной науке обозначение (narrationes animae utiles / spiritually beneficial tales) является слишком общим и не совсем адекватно отражающим их особенности. Д. Уортли насчитывает семь сборников душеполезных рассказов: Historia monachorum in Aegypto, «Лавсаик», два основных собрания Apophthegmata Patrum, сборник Даниила Скитского, «Луг Духовный» и сборник рассказов св. Анастасия Синаита [27, p. 25–26; 26, p. IX–X; 11, p. 42]. Если говорить именно об агиографическом, а не о душеполезном рассказе вообще, этот список следует откорректировать. Cюда, оставаясь в рамках византийской традиции, нужно добавить «Историю боголюбцев» блж. Феодорита Кирского и указать на достаточно сложный характер собраний апофтегм, где наряду с агиографическими рассказами присутствуют просто высказывания (= нарратив без действия) или просто spiritually beneficial tales, где для обучения правильному душевному расположению и поведению (то есть ортопраксии) предлагаются отрицательные примеры. Отчасти это справедливо и для труда Иоанна Мосха.
Принцип, который определял дальнейшую эволюцию и рецепцию сборника в различных областях христианского мира, может быть сформулирован так: центробежные тенденции преобладали над центростреми- тельными. Косвенно это подтверждает предположение об изначальной гетерогенности текстов: рассказы, созданные как отдельные, в конце концов отдельными и становятся. В одном случае мы имеем и более глубокий уровень дезинтеграции: эпизод об избавившемся от блудных искушений монахе на могиле Фомаиды отделяется от общего текста и становится самостоятельным коротким рассказом (BHG 2453b) [10, p. 21–22].
Всего можно выделить три стратегии последующего бытования текстов цикла: 1) традиция апофтегм; 2) «житийная» традиция; 3) традиция миней. Первая является самой распространенной: отдельные рассказы цикла переписываются и сохраняются в сборниках апофтегм (и иных компиляциях, типологически с ними сходных). Порядок их соединения между собой может быть самым произвольным. Вторая традиция – единственная, которая имеет интеграционный характер. Она объединяет разные рассказы цикла в один житийный текст. Но ее следы обнаруживаются только у коптов и эфиопов [10, p. 83–114; 16]. Совершенно не следует соглашаться с мнением Т. Вивиана, полагающего, что коптское и эфиопское Житие Даниила – это не житие, а энкомий или проповедь [24, p. 97, 127] (ср.: [11, p. 56]). Эти тексты по своим жанровостилистическим особенностям не имеют ничего общего с агиографической проповедью или агиографическим энкомием, достаточно хорошо представленными в коптской литературе. Житие Даниила демонстрирует явное сходство с коптскими Житиями свв. Макариев (Египетского и Александрийского). И там, и здесь имеет место один и тот же алгоритм – соединение отдельных рассказов в единое повествование (в случае с Житиями свв. Макариев начальным материалом были апофтегмы и агиографические рассказы из «Лавсаика» (см.: [3]). Судя по текстуальным параллелям в начале Жития (прооймионе) и некоторым другим данным, коптский и эфиопский текст представляют собой разные версии одного оригинала, коптская – краткий, а эфиопская – пространный его вариант. Основной проблемой здесь является различный день памяти святого: 8 пашонса (3 мая по юлианскому календарю) в коптском тексте, 7 тахсаса (3 декабря по юлианскому календарю) в эфиопском.
Традиция миней – максимально центробежная. Она стремится отделить рассказы цикла друг от друга и переработать их в краткие житийные версии. Единственным исключением здесь можно считать копто-арабскую (под 8 башанса) и эфиопские (под 7 тахсаса и под 8 гэнбота) сообщения о Данииле, представляющие собой «интегрированные» версии (см.: [24, p. 124–125, 152–156]). Наиболее показательной в этом смысле является византийская традиция. Минейная версия рассказа о патрикии Афанасии [10, p. 8–12; 24, p. 74–76] «выпрямляет» повествование, перенося домонашескую часть жизни Анастасии в начало рассказа и добавляя к нему необходимые для нормативного жития данные о родителях святой и ее добродетелях. Еще одним характерным примером унификации является версия об Андронике и Афанасии (Par. Coisl. 283, ff. 291v-295), которая получает именование жития (Βίος) [10, p. 52]. Агиографический рассказ о святых супругах – наиболее «биографический» из всех частей цикла, поэтому не удивительно, что он со временем, без существенного изменения нарратива, обретает формальные рамки жития и помещается в минею под 9 октября.
Историческая ценность цикла Даниила понимается по-разному. Наиболее оптимистичен Т. Вивиан, который признает подлинность ряда событий, приводимых там, историчность Даниила и его ученика, Анастасии, Евлогия и Марка, полагая при этом, что неразрешимая на сегодняшний день трудность заключается в попытках отличить реальный исторический субстрат рассказов от его агиографической трансформации (overlay/inlay) [24, p. 19]. В отдельных пунктах это мнение разделяют Т. Орланди [20] и П. ван Кавенберг [23, p. 24]. Б. Далман придерживается традиционной точки зрения на ценность агиографии, считая, что эти рассказы, главным образом, предоставляют важные сведения о повседневной жизни (одежда, еда, обычаи, церемонии, особенности церковного и гражданского управления и т. д.) [11, p. 67]. Мнения остальных исследователей можно кратко резюмировать словами Э. Вип-шицкой: эти тексты – собрание агиографических топосов, они не имеют значения для истории монашества в конкретном месте и в конкретное время, но могут быть интересны для изучения монашеского менталитета [25, p. 320–321]. Однако, как мы полагаем, такая оценка обусловлена довольно поверхностным взглядом на текст, предполагающий неспешное чтение между строк.
Приведем только два примера. В тексте Даниил называется «игуменом Скита» и это выражение является его постоянным эпитетом. Эфиопская синаксарная традиция, помимо прочего, называет Даниила игуменом монастыря св. Макария (см.: [24, p. 152–155]). В рассказе о юродивом Марке указано об обычном ежегодном пасхальном посещении Александрийского патриарха «игуменом Скита». Как известно, с IV в. Скит представлял собой монашескую «агломерацию», состоящую из четырех монастырей (со своими настоятелями). Таким образом, текст цикла Даниила достаточно четко ставит вопрос о возможно бóльшей, чем в предшествующие столетия, интеграции этой «агломерации». География путешествий Даниила ясно показывает связи Скита VI в. с Александрией и монашескими центрами вокруг нее (прежде всего это Пемптон, Энатон и Октокайдекатон). Также она демонстрирует контакты Скита VI в. с монашескими общинами Верхнего Египта: греческий текст указывает на Гермопольский ном, а эфиопская традиция содержит сведения, что путешествия Даниила могли простираться до Гермонтиса (район современного Луксора) (см.: [24, p. 141, 351]). Описания этих путешествий, даже если мы не забываем об условностях агиографического текста, намекают на то, что контакты скетиотов с некоторыми другими монашескими общинами Египта были довольно тесными. Таким образом, речь может идти о неплохо функционирующей в VI в. монашеской «сети» (или «ризоме»). Вопрос заключается только в том, была ли она целиком миафизитской или гетеродоксальной.
Два первых рассказа цикла (по нумерации Б. Далман), перевод которых представлен ниже, ставят ряд более конкретных вопросов. Греческая версия рассказа о Данииле помогает понять, почему именно его фигура стала «детерминативом» тайной святости. В рассказе Даниил выступает кающимся и совершающим тайный подвиг (ухаживание за прокаженным). На наш взгляд, такой профиль святости как магнитом мог притягивать к нему другие рассказы о тайных слугах Божиих (ср.: [11, p. 87–89]).
Другим, более важным вопросом является конфессиональная принадлежность Даниила. Сохранившаяся греческая традиция представляет его конфессионально индифферентным, тогда как коптское и эфиопское Жития включают ряд дополнительных эпизодов, где Даниил представлен строгим миафизитом, с гневом отвергшим «Томос» папы Льва (распространенное в коптской агиографии «клише», под которым в данном случае следует понимать униональные предложения Юстиниана). Мнения ученых разделились. Одни (Л. Клюнье, Х. Эвелин Уайт) полагали, что греческая традиция является аутентичной, а миафизитские эпизоды Жития – позднее дополнение, цель которого – сделать Даниила миафизитом. Другие (П. ван Кавенберг, Л. МакКоул) полагали, что Даниил был антихалкидонитом, а греческая традиция впоследствии исключила свидетельства о его миафизитстве. В пользу аутентичности коптских свидетельств о Данииле высказывался и Т. Орланди [20].
Основные аргументы сторонников греческой (халкидонской) традиции, если их суммировать, были следующими: 1) другие истории цикла не демонстрируют антихалкидонских тенденций; 2) миафизитские эпизоды отсутствуют в сирийской и арабской традициях; 3) образ Даниила остальных частей противоречит его агрессивному поведению в отношении «Томоса» Льва; 4) миафизитские эпизоды не согласуются хронологически с историей Анастасии; 5) нет четких свидетельств, что Юстиниан проводил в Египте политику принуждения и запугивания; 6) антихалкидонский манифест Даниила подозрительно сильно напоминает соответствующее место из миафизитского «Жития Самуила из Каламун» (см.: [11, p. 57; 24, p. 98]). Контраргументы их противников включали два принципиальных соображения: 1) во время Юстиниана в Египте существовало сильное монашеское сопротивление Халкидон-скому собору; 2) Даниила нет в византийском церковном календаре (в отличие, например, от Анастасии), что говорит о его изначально неправoславном статусе (см.: [11, p. 58]).
Следует отметить, что основные аргументы в пользу аутентичности халкидонской традиции были выдвинуты почти сто лет назад, когда некоторые важные коптские источники еще не были полноценно введены в научный оборот, а также не было ясного понимания особенностей бытования традиции о Данииле у сирийцев и арабо-христиан. Последующие исследования выявили данные, подтверждающие высказывание Иоанна Никиусского о том, что в Египте при Юстиниане имели место репрессии в отношении нехалкидонитов (Io. Nic. Chron. XCIV. 18) (ср.: [24, p. 99–101]). На сегодняшний момент нельзя со всей определенностью сказать, какая из двух традиций (халкидонская или миафизитская) является верной. Однако при современном уровне знаний, аргументы защитников халкидонской версии выглядят довольно шаткими, а миафизитская версия – более предпочтительной. Подробный разбор этого вопроса занял бы много места, поэтому мы просто приведем мнение Б. Дал-ман, с которым полностью согласны: более вероятно то, что миафизитские эпизоды первоначально были написаны на греческом и не сохранились (как значительная часть греческой антихалкидонской литературы), чем то, что они были сочинены позже и вставлены в коптское и эфиопское Жития [11, p. 58]. Однако если конфессиональная логика удаления из текста неудобных мест (или – наоборот – дописывания некоего optatum) вполне понятна, то неясным пока остается вопрос о причинах отсутствия у коптов и эфиопов остальных греческих частей «биографии» Даниила (то есть историй об убийстве и уходе за прокаженным).
Рассказ о юродивом Марке сообщает ряд значимых подробностей о топографии Александрии: там упоминаются тетрапилон (τὸ Τετράπιλον μέγα) и здание, обозначенное как Гипп (Ἵππος), функция которого не до конца понятна. Но самым интересным остается вопрос, можем ли мы считать Марка подлинным христианским юродивым. Более ранние примеры симуляции сумасшествия (напр., Palladius . Hist. Laus. Саp. 34) – это, как принято полагать, предыстория вопроса, своего рода «протоюродство». Несмотря на то что монашеский генезис этой аскетической практики сомнений не вызывает, социальный контекст классического юродивого – это городская среда, а не монастырь.
Б. Далман указывает на два обстоятельства, которые позволяют усомниться в том, что Марк является полноценным христианским σαλός (хотя в тексте он назван именно так, а не просто «тайным слугой» (κρυπτὸς δοῦλος)). Во-первых, Марк – монах-неудачник, принимающий на себя подвиг городского сумасшедшего, поскольку ему так и не удалось побороть блудные помыслы в пустыне. В отличие от него образцовый юродивый VI в., Симеон Эмесский, вступает на свою стезю, уже достигнув совершенства в монастыре. Во-вторых, Марк, по ее мнению, в своей аскезе недостаточно провокативен и агрессивен: он «всего лишь» нищенствует, ходит в одной набедренной повязке и ворует вещи на рынке (чтобы раздать их настоящим слабоумным). Провокации Симеона куда более радикальны и скандальны: он таскает по улицам дохлую собаку, прилюдно испражняется, водит хороводы с проститутками, кидается орехами в церкви во время службы [11, p. 78–79]. Но сама Далман при этом признает определенную вариативность в подвиге юродства, приводя еще один пример кающегося σαλός [11, p. 79–80]. Различия в поведении Марка и Симеона, на наш взгляд, – это отличия не качественные, а количественные. Стоит вспомнить, что один – египтянин, а другой – сириец. Монашеская аскеза в Сирии местами носила куда более радикальный характер, чем более умеренная египетская. Однако вряд ли кто-то на этом основании рискнет назвать египетских подвижников «недомонахами» по отношению к их сирийским собратьям.
Перевод выполнен по изданию Б. Дал-ман. Нумерация рассказов также дана по нему (издание Л. Клюнье и английские переводы Т. Вивиана-Д. Уортли имеют другую нумерацию). В круглых скобках вставлены слова, которых нет в греческом тексте, но они необходимы для лучшего понимания смысла или по стилистическим соображениям. В комментариях мы учли разночтения по критическому аппарату Б. Далман, а также примечания к ее английскому переводу и переводу Т. Вивиана-Д. Уортли.
ПРИЛОЖЕНИЕ
-
1. Об авве Данииле Скитском
-
2. Об авве Марке юродивом
Сей авва Даниил с детства был 1 в Скиту. Сначала пребывал он сорок лет в общине 2, а затем стал подвизаться отдельно. И напавшие (на Скит) варвары взяли его в плен. И был он у них два года. Но один христолюбивый человек 3 спас его от варваров. А через короткое время 4 вновь вернулись варвары и (снова) увели его (в плен). И вновь, пробыв у них шесть месяцев, сбежал он от них. Но снова, в третий раз, напали варвары (на Скит) и взяли Даниила в плен 5. Они унижали его и мучили беспощадно. Но однажды он, дождавшись удобного случая 6, взял камень и ударил (им) чужестранца, и тот от удара умер. А авва Даниил спасся бегством.
И, раскаявшись в убийстве, которое он совершил, пошел Даниил в Александрию и рассказал архиепископу Тимофею 7 о случившемся. Архиепископ же судил 8 его, говоря: «Разве Тот, Кто спас тебя дважды, не смог бы снова тебя спасти? Но все же не совершил ты убийства, ибо убил зверя». Приплыв в Рим, авва Даниил вновь рассказал об убийстве (на этот раз) римскому папе 9, и тот ответил авве то же самое. Побывав же в Константинополе, в Эфесе 10, в Иерусалиме и в Антиохии, поведал он (тамошним) патриархам об убийстве, и все они в один голос ответили ему то же самое.
Снова вернувшись в Александрию, сказал он себе: «Даниил, Даниил, тот, кто убил, будет убит». И, придя в преторий 11, он предал себя властям 12, сказав им: «Я подрался с одним (человеком) и, охваченный гневом, ударил его камнем и убил. Призываю вас передать (меня) правителю 13 и казнить за убийство, которое я совершил, чтобы избежать мне грядущего наказания 14». Они, услышав это, бросили его в темницу. И спустя тридцать дней рассказали о нем правителю. Правитель освободил его из темницы и допросил по поводу убийства. Даниил поведал ему всю правду. Правитель удивился рассудительности 15 аввы Даниила и отпустил его со словами: «Иди и помолись обо мне, авва, хорошо, если бы ты убил и других семерых 16из них».
Старец сказал себе: «Уповаю на человеколюбие Божие, (на то) что благость Его не вменит мне убийство. Отныне я клянусь Христу, что все дни жизни моей буду прислуживать прокаженному 17 (в наказание) за убийство, которое совершил». И взял он одного прокаженного в (свою) келью. И сказал себе Даниил: «Если этот (прокаженный) умрет, я пойду в Египет 18 и возьму другого вместо него».
И все монахи Скита 19 узнали, что старец взял прокаженного, но никто не мог видеть лица его, кроме самого старца. Однажды около шестого часа 20 позвал старец своего ученика для какой-то надобности, и по промыслу Божию так случилось, что оставил старец дверь в келью открытой. И сел авва под солнцем, осматривая прокаженного. И был тот весь покрыт язвами. Ученик старца, вернувшись после (исполнения) дела, обнаружил дверь открытой и заметил, как старец ухаживает за прокаженным. Поскольку тот был весь гноящийся, (авва) разминал 21 пищу и вкладывал ее ему в рот 22.
Увидев то странное дело, которое совершал старец, ученик поразился (ему) и восславил Бога, даровавшего столь великое смирение старцу, так заботящемуся о прокаженном.
С этим учеником его 23 короткое время подвизался один брат по имени Сергий, (а затем) упокоился в Господе. После кончины аввы Сергия дал авва Даниил ученику его свободу (говорить откровенно) 24, ибо любил его.
Однажды старец взял его и поднялся в Александрию 25. Ибо был обычай у игумена Скита 26 посещать патриарха 27 на великий праздник 28. Они прибыли в город около одиннадцатого часа 29, и, когда они шли по улице, увидели нагого 30 брата, чресла 31 которого были обвиты куском ткани 32. Этот брат претворялся безумным и были с ним другие ненормальные 33. Он ходил вокруг подобно безумцу и сумасшедшему 34, хватая то, что было на рынке, и отдавая (это) другим ненормальным. Звали его Марк из Гиппа 35. Гиппом же называли (одно) общественное здание 36 (в городе). Там и трудился юродивый 37 Марк, и зарабатывал сто нуммий 38 в день, там же он ночевал на скамьях. Из этой сотни нуммий он покупал себе еды 39 на двенадцать 40 монет, а прочее отдавал другим полоумным. Весь город знал Марка из Гиппа из-за безумия его.
Сказал старец ученику своему: «Иди посмотри, где остановится этот юродивый». Ученик, отойдя, спросил и сказали ему: «В Гиппе, ибо он безумец». После прощания с патриархом, на следующий день, по промыслу Божию увидел Даниил юродивого Марка возле Великих ворот 41, и, подбежав, старец схватил (его) и начал кричать: «Мужи александрийские, помогите!». Юродивый (же) издевался над старцем. Собралась вокруг них большая толпа. Ученик из-за предосторожности стоял вдалеке. И все говорили старцу: «Не обращай внимания 42, он безумен». Сказал же им старец: «Это вы безумны, нынче я не нашел ни одного (нормального) человека 43 в этом городе, кроме него».
Пришли клирики церкви, знавшие старца, и спросили его: «Что же сделал тебе этот безумный?». Ответил им старец: «Отведите его (со) мной к патриарху». И они увели его. И сказал старец патриарху: «Ныне в этом городе нет такого вот сосуда (избранного)». Патриарх, знавший, что старцу открыто было от Бога о юродивом, пал к нему в ноги, и начал молить открыть ему и остальным, кто он.
Тот, перестав прикидываться 44, открыл ему (правду), сказав: «Был я монахом и властвовал надо мной пятнадцать лет бес блуда. Когда пришел я в себя, то сказал себе: “Марк, пятнадцать лет ты был рабом врага 45, так сделайся точно так же рабом Христа”. И ушел я в Пемптон 46, и пребывал там восемь лет, и после восьми лет сказал себе: “Иди-ка ты в город 47 и сделайся безумным, чтобы стал ты свободен от греха своего 48”. И вот, ныне закончились восемь лет моего безумства». И возрыдали все, услышавшие это, и восславили Бога.
Переночевал Марк в покоях патриарха вместе со старцем. А рано утром сказал старец своему ученику: «Позови мне авву Марка, чтобы сотворить нам молитву о нашем (успешном) возвращении в келью нашу». И ученик, придя (к юродивому), увидел, что тот упокоился в Господе. Старец сообщил об этом патриарху, патриарх – властям 49, и они повелели остановить городскую жизнь 50. И отослал старец ученика своего в Скит 51 со словами: «Бей в било 52, и собирай (всех) отцов и скажи им: “Приходите, чтобы благословиться от старца”».
И пришел 53 весь Скит, имея на себе белые одежды 54, с пальмовыми ветвями 55, (пришли) также и Энатон 56, и Келлии 57, и те, кто (были) на Нитрийской горе 58, и все лавры рядом с Александрией 59. По этой причине останки (святого) не могли предать земле пять дней, и (власти) были вынуждены умащать останки блаженного Марка благовониями 60. И так весь город и монахи (из окрестных монастырей) со свечами и фимиамом 61, омывая слезами главную улицу 62, хоронили честные останки блаженного юродивого Марка, славя и хваля человеколюбивого Бога, удостоившего столь великой славы и милости любящих Его и ныне и в грядущем веке.
Список литературы Рассказы о Данииле Скитском. I. Даниил Скитский (BHG 2100) и юродивый Марк (BHG 2255) (введение, перевод с греческого и комментарии А.А. Войтенко)
- Voytenko A.A. Egipetskoe monashestvo v IV v.: Zhitie prep. Antoniya Velikogo, Lavsaik, Istoriya monakhov [Life of St Antony, the Lausiac History, the History of Monks in Egypt and Egyptian Monasticism at the 4th Century]. Moscow, CES RAS, 2012. 320 p.
- Voytenko A.A. Koptskiy pogrebalnyy ritual po pismennym istochnikam [Coptic Burial Customs After the Written Sources]. Aeternitas: sb. st. po greko-rimskomu i khristianskomu Egiptu [Aeternitas. Collection of Articles on Greco-Roman and Christian Egypt]. Moscow, CES RAS, 2012, pp. 38-70.
- Voytenko A.A. Koptskie fragmenty «Lavsaika» [Coptic Fragments of Historia Lausiaca]. Theodulos: sb. st. pamyatiI.S. Chichurova [Theodulos. Collection of Articles in Memory of Igor S. Chichurov]. Moscow, St. Tikhon's Orthodox University, 2012, pp. 57-72.
- Voytenko A.A. Nekotorye osobennosti vospriyatiya prostranstva v koptskikh monasheskikh zhitiyakh [Some Features of the Spatial Perception in Coptic Monastic Lives]. Vestnik MGPU, 2015, no. 2 (18), pp. 67-76.
- Dvoretskiy I.Kh. Latinsko-russkiy slovar [Latin-Russian Dictionary]. Moscow, Rus. yaz. Publ., 1996. 846 p.
- Khitrov M.I., ed. Lug dukhovnyy, tvorenie Ioanna Moskha [Spiritual Meadow by John Moschos]. Sergiev Posad, Svyato-Troitskaya Lavra, 1915. 282 p.
- Regnault L. Povsednevnaya zhizn ottsov-pustynnikov IV v. [Everyday Life of the 4th Century Desert Fathers]. Moscow, Molodaya gvardiya Publ., 2008. 334 p.
- Bonnet M. Review on Clugnet L. Vie (et récits) de l'abbé Daniel le Scétiote (VIe siècle). Paris, Picard et fils, 1901. Byzantinische Zeitschrift, 1904, Bd. 13, S. 166-171.
- Clugnet L., ed. Vie et récits de l'abbé Daniel le Scétiote (VIe siècle). Revue de l'Orient Chretien, 1900, vol. 5, pp. 49-73, 254-271, 370-391; 1901, vol. 6, pp. 56-87.
- Clugnet L. et al., eds. Bios tou abba Daniel tou Skëtiôtou / Vie (et récits) de l'abbé Daniel le Scétiote (VIe siècle). Paris, Librairie A. Picard, 1901. 117 p.
- Dahlman B. Saint Daniel of Sketis. A Group of Hagiographic Texts Edited with Introduction, Translation, and Commentary. Uppsala, Uppsala University Library, 2007. 260 p.
- Drescher J., ed. Three Coptic Legends. Hilaria. Archellites. The Seven Sleepers. Le Caire, IFAO, 1947. VIII, 179 p., 12 Pl.
- Garitte G. Daniel de Scéte. Dictionnaire d'histoire et de géographie ecclesiastiques, 1960, vol. 14, cols. 70-72.
- Gascou J. Enaton, The. Coptic Encyclopedia. Vol. 3. New York, Macmillan Publ. Co., 1991, pp. 954958.
- Gascou J. Pempton. Coptic Encyclopedia. Vol. 6. New York, Macmillan Publ. Co., 1991, p. 1931.
- Goldschmidt L., Esteves Pereira F.M., eds. Vida do abba Daniel do mosteiro de Sceté. Versäo ethiopica. Lisboa, Imprensa nacional, 1897. XXII + 58 p.
- Guy J.-C. Recherches sur la tradition grecque des Apophthegmata Patrum. Bruxelles, Societe des bollandistes, 1963. 275 p.
- Haas Ch. Alexandria in Late Antiquity. Topography and Social Conflict. Baltimore/MD; London, The Johns Hopkins University Press, 1997. 494 p.
- Lampe G.W.H. A Patristic Greek Lexicon. Oxford, Clarendon Press, 1961. XLIX, 1568 p.
- Orlandi T. Daniel of Scetis. Coptic Encyclopedia. Vol. 3. New York, Macmillan Publ. Co., 1991, p. 692.
- Smith Lewis A., ed. The Forty Martyrs of the Sinai Desert and the Story of Eulogius from a Palestinian Syriac and Arabic Palimpsest. Cambridge, University Press, 1912. 52, 82 p., pl.
- Sophocles E.A., ed. Greek Lexicon of the Roman and Byzantine Periods (from B.C. 146 to A.D. 1100). Hildesheim; Zürich; New York, Georg Olms Verlag, 1992. 1188 p.
- Van Cauwenbergh P. Étude sur les moines d'Égypte depuis le concile de Chalcédoine (451) jusqu'à l'invasion arabe (640). Paris, Imprimerie nationale, 1914. X, 199 p.
- Vivian T., ed. Witness to holiness: Abba Daniel of Scetis. Kalamazoo/MI, Cistercian Publications, 2008. 399 p.
- Wipszycka E. Études sur le christianisme dansl'Égypte de l'antiquité tardive. Roma, Institutum Patristicum Augustinianum, 1996. 452 p.
- Wortley J., ed. The Spiritual Meadow (Pratum Spirituale) by John Moschos (also known as John Eviratus). Kalamazoo/MI, Cistercian Publications, 1992. XX, 287 p.
- Wortley J., ed. The Spiritually Beneficial Tales of Paul, Bishop of Monembasia and of Other Authors. Kalamazoo/MI, Cistercian Publications, 1996. 225 p.