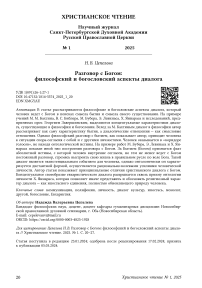Разговор с Богом: философский и богословский аспекты диалога
Автор: Цепелева Н.В.
Журнал: Христианское чтение @christian-reading
Рубрика: Теоретическая теология
Статья в выпуске: 1 (112), 2025 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются философские и богословские аспекты диалога, который человек ведет с Богом в поисках смысла бытия и смысла своего существования. На примере учений М. М. Бахтина, В. С. Библера, М. Бубера, Э. Левинаса, Х. Яннараса и исследований, предпринятых прот. Георгием Завершинским, выделяются концептуальные характеристики диалога, существующие в философии и богословии. Вслед за М. Бахтиным диалог в философии автор рассматривает как саму характеристику бытия, а диалогические отношения - как смысловые отношения. Однако философский разговор с бытием, как показывает автор, приводит человека к ситуации спора-согласия с собой и с другими личностями. Человек оказывается в «коридоре голосов», не находя онтологической истины. На примере работ М. Бубера, Э. Левинаса и Х. Яннараса показан иной тип построения разговора с Богом. За Бытием (Богом) признается факт абсолютной истины, с которой человек внутренне согласен, но тем не менее ведет с Богом постоянный разговор, стремясь выстроить свою жизнь в правильном русле по воле Бога. Такой диалог является экзистенциальным событием для человека, однако онтологически он характеризуется дистантной формой, осуществляется рационально-волевыми усилиями человеческой личности. Автор статьи показывает принципиальные отличия христианского диалога с Богом. Концептуальное своеобразие евхаристического диалога раскрывается сквозь призму онтологии личности Х. Яннараса, которая позволяет иначе представить и обосновать религиозный характер диалога - как ипостасного единения, полностью обновляющего природу человека.
Коммуникация, полифония, личность, диалог культур, ипостась, монолог, другой, богословие, евхаристия
Короткий адрес: https://sciup.org/140309271
IDR: 140309271 | УДК: 1(091):26-1:27-1 | DOI: 10.47132/1814-5574_2025_1_20
Текст научной статьи Разговор с Богом: философский и богословский аспекты диалога
Феномен диалога как основы плодотворного межсубъектного взаимодействия и особого характера мышления стал в современной культуре основополагающим и всеохватным. Наверное, никто уже не сомневается в тезисе, что диалоговые отношения являются универсальными (ср.: [Библер, 1990, 19]). В этом состоит причина актуальности проблемы диалога во всех сферах деятельности: в философствовании, в естественных и гуманитарных науках, в теологических системах и пр. В образовании даже существуют целые школы диалога, направленные на формирование у детей диалогического сознания, свободного от монокультурного восприятия действительности.
Актуальность обращения к теме диалога в теологическом контексте дополняется вопросом о роли Церкви в выстраивании личных отношений с Богом. Может ли христианин построить личные отношения с Богом на основе философской веры? Может ли он разговаривать с Богом вне храма и религиозных обрядов, таинств? Каков характер диалога с Богом? Все эти вопросы фокусируются вокруг широкой и глубокой проблемы — проблемы истинной и неистинной коммуникации с Богом и, соответственно, с бытием и другими людьми. Как определить, находится ли человек в подлинной коммуникации с бытием или живет в мире иллюзий? Выстраивает ли человек действительный разговор с Богом, или живет в плену собственного разномыслия? Что способен уловить человеческий слух в мировой полифонии? Что, наконец, мы имеем в виду, когда говорим о выстраивании личных отношений человека с Богом в философском и богословском аспектах диалога?
Таков небольшой перечень вопросов, связанных с проблемой диалога. Для рассмотрения данной проблематики нам представляется важным обратиться к ее основе — к сравнительному анализу онтологических аспектов философского и религиозного диалога.
Философский диалог как «коридор разномыслия»
В философии начиная с XX в. диалог рассматривают как саму структуру бытия (см., напр.: [Бахтин, 2003, 213]). При этом сам поступок, как мы помним, у Бахтина оказывается текстом (см.: [Бахтин, 1986, 302]). Человек оказывается в ситуации многоголосия, постоянного речетворчества, находясь постоянно в полилоге со многими другими сознаниями (см.: [Бахтин, 1986, 308]). Неслучайно В. С. Библер, последователь Бахтина, отмечает, что диалог представляет собой прежде всего разговор философских миров, философских парадигм (см. подр.: [Библер, 1990, 292–293]). На наш взгляд, данный полилог представляет собой разновидность философского диалога, который ведет человек сам с собой в поисках смысла. М. Бахтин замечает: «Отношение к вещи… не может быть диалогическим. Отношение к смыслу всегда диалогично. Само понимание уже диалогично» [Бахтин, 1986, 317]. В этом контексте становится понятной характеристика диалога как некоего спора-согласия, который ведет человек по отношению к бытию. Можно ли говорить в этом случае о присутствии двух сознаний, включенных в диалогический контекст? По Бахтину, за этим диалогическим контактом текстов стоит «контакт личностей» [Бахтин, 1986, 385]. На наш взгляд, здесь можно также говорить о разных подходах к бытию, разных интерпретациях бытия, существующих в полилогической коммуникации с бытием. Здесь, мы полагаем, речь идет об экзистенциальном поиске истинного в противовес неистинному и неподлинному пониманию бытия.
Мыслитель выделяет различные формы диалогичности: «доверие к чужому слову, благоговейное приятие (авторитетное слово), ученичество, поиски глубинного смысла, согласие, его бесконечные градации и оттенки (но не логические ограничения и не чисто предметные оговорки), наслаивания смысла на смысл, голоса на голос, усиление путем слияния (но не отождествления), сочетание многих голосов (коридор голосов), дополняющее понимание, выход за пределы понимаемого» и т. п. [Бахтин, 1986, 317]. Диалог у Бахтина представляет собой динамичный процесс. Мы можем констатировать его многоуровневость, вариативность и иерархичность. Человек, находящийся в поисках смысла, выходит на новый уровень диалога с бытием. Находясь в ситуации речетворчества — как своего собственного, так и других сознаний, человек видит прежде всего «разговор миров», столкновение разных концепций, разных смыслов, формулируемых тем или иным субъектом, поступком, событием. Но они (эти миры, эти голоса) существуют прежде всего внутри него, внутри вопрошающего человека: человек убеждает и спорит «внутри себя», он впускает в свое сознание те вопросы, «голоса», идеи и смыслы, которые волнуют его самого. Этот диалог может завершиться экстатическим состоянием — выходом за пределы понимаемого, за пределы себя. Таков философский тип диалога и, собственно, его пределы.
Cам М. М. Бахтин, как мы знаем, концептуализировал диалог как своеобразный карнавал. Это действительно так: человеческое «я» предстает в виде различных масок, личин, сбрасываемых или разоблачаемых с целью открытия своего истинного, глубинного «я». В этом диалоге личин мы не можем знать достоверно о своем «я» или «я» другого. Мы не можем знать о подлинности речетворчества, которое осуществляет другой и сам человек. Отдает ли себе отчет сам человек в подлинности совершающегося диалога? Каковы его критерии? Будучи захвачен карнавалом реальности, онтической структурой бытия, человек может так и не подняться на уровень онтологического диалога. Он может вести диалог с собственной маской и личиной, а не с глубинным, личностным основанием бытия (своим или другим); наконец, сама маска (одна из личин «я») может вести диалог. В «карнавальном» диалоге человек может обнаружить в себе другое «я» или, по терминологии Ф. М. Достоевского, «подпольного человека», но так и не обнаружить подлинного «я».
Можно выделить еще одну черту подобного диалогизма. Н. К. Бонецкая делает знаковое, на наш взгляд, замечание относительно диалогизма Бахтина (см. подр.: [Бонецкая, 1993]). Она отмечает, что по сравнению с идеей всеединства, характерной для русской религиозной философии, где «я» и «другой», «я» и «мы» практически сливаются нераздельно, у Бахтина присутствует скорее протестантское чувство «дру-гости» другого. Она пишет, что «православному человеку не присуще это чувство „другости“ другого, столь заостренное у Бахтина…» [Бонецкая, 1993, 91].
Религиозный диалог: разговор с Богом или с самим собой?
Иной тип диалога демонстрирует верующее сознание. В религиозном диалоге человек ведет разговор прежде всего с Богом, он обращается к некоей Абсолютной Личности. В диалогической структуре бытия, представленной в религиозном миро-видении, истина присутствует в вертикальном измерении. Следовательно, диалог из поиска истины превращается во встречу с Истиной, становясь диалогом с Богом. М. Бубер характеризует данный тип диалога как опыт переживания личной встречи с Богом (см. подр.: [Бубер, 1993]). Диалог становится для человека экзистенциальным событием: это встреча с Другим «я». Более того, перед нами не столкновение или согласие разных сознаний или интерпретаций бытия. Перед нами определенное отношение к самой сути бытия, к ее онтологическому основанию. Диалог переносится из мира явлений в мир сущностей, при этом человек сталкивается с врожденным «ты». Неслучайно М. Бубер, выделяя три разновидности диалога (подлинный, технический и монологический), отмечает, что в подлинном диалоге «врожденное „ты“» человека стремится стать реальностью. Оно прорывается в мир явлений, человек начинает иначе выстраивать свои отношения с бытием. М. Бубер призывает человека поддерживать глубоко личностное и интимное отношение с Богом, подобное тому, что имело место у ветхозаветных пророков. Отношения «я-ты» у Бубера взаимны, они становятся основой межличностных отношений с другими людьми. На их основе выстраивается определенная этическая система.
Об этой стороне религиозного диалога очень подробно рассуждает Э. Левинас, отдавая приоритет в построении диалога с Богом не вере, а ответственности и заботе о ближнем.
У Левинаса в его религиозном типе диалога присутствует идея троичности, понимаемая в этическом контексте. Двусторонний диалог «я-ты» реализуется через поступок, через отношение к другому человеку, в образе которого выступает Бог. Левинас таким образом соединяет в диалоге религию и мораль: с одной стороны, разговор с Богом, глубоко личностная вера, а с другой стороны — ответственность и справедливость по отношению к человеку. Именно отношение с другим человеком открывает присутствие Бога. Вследствие этого человек наделяется некоторыми обязанностями в отношении ближних. Так возникает личная ответственность за других, связанная с долгом и справедливостью. «Набожный — значит справедливый», — отмечает Леви-нас [Левинас, 2004, 336].
Подводя промежуточные итоги о религиозном типе диалога, можно сказать, что в религии разговор человека с Богом — это прежде всего общение с Богом, это молитва. Онтологической основой диалога является вера в Бога. Характеризуя диалог, представленный в иудаистической традиции в интерпретации Бубера и Левинаса, можно отметить следующее: ни в диалоге Бубера, ни в диалоге Левинаса человек не осознает «ты» как собственную инаковость, как свое подлинное существование. Между Творцом и тварью наличествует онтологическая пропасть. Человек видит в «ты» маяк, путеводную звезду, он ведет разговор с Богом, но спасает себя сам. Взаимность диалога «я-ты», основанная на подобной вере, является экзистенциальным событием, встречей, но не становится для человека экзистенциальным со-быти е м (совместным бытием). Диалог осуществляется на ментальном уровне: это верующее сознание вступает в разговор с Богом. Вероятно, поэтому Бубер описывает диалогическую реальность разговора с Богом словом «между», то есть «посреди», «посередине».
Богословский тип диалога Х. Яннараса
Диалог человека с Богом в христианстве — это не только экзистенциальное событие, личная встреча с Богом, это не только обращение человека, взывающего и взыскующего Истину и обретающего ее в согласии с волей Бога. Исходя из христиански понятого диалога, буберовская идея «врожденного „ты“» оказывается наполненной другими смыслами: «и не скажут: вот, оно здесь, или: вот, там. Ибо вот, Царствие Божие внутрь вас есть» (Лк 17:21). И еще: «впрочем не Моя воля, но Твоя да будет» (Лк 22:42). Новое осмысление диалогичных отношений связано с иной метафизикой и онтологией христианства. В христианстве, как пишет греческий богослов митр. Иоанн (Зизиулас), само «бытие Бога соотносительно: невозможно говорить о бытии Бога вне понятия общения… Троица — понятие онтологически изначальное… Вне общения у Божественной сущности, „Бога вообще“, нет онтологического содержания, нет реального бытия» [Иоанн Зизиулас, 2006, 11]. Эта особенность бытия Бога характеризует отличие христианского мировоззрения от других видов монотеизма.
Христианский тип диалога, по замечанию другого греческого богослова — Х. Ян-нараса, строится по образу тринитарного единства (см. подр.: [Яннарас, 2005]). Диалогичность опирается на принцип ипостасности человеческого и Божественного бытия: «Отче Святый! соблюди их во имя Твое, тех, которых Ты Мне дал, чтобы они были едино, как и Мы… He о них же только молю, но и о верующих в Меня пo слову их, да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они да будут в Нас едино» (Ин 17:11, 20:21). Единение людей уподобляется существенному единству Лиц Святой Троицы. О создании из людей такого единства — Церкви, и молился Господь Иисус Христос Своему Небесному Отцу. Указав идеал Церкви в единодушии Лиц Святой Троицы, Он в той же молитве говорил: «пусть любовь, которою Ты возлюбил Меня, в них будет, и Я в них» (Ин 17:26).
Заметим, что в этом диалоге нет спора-согласия, здесь нет двух сознаний, сомневающихся и ищущих истину, открывающих новые смыслы в оживших для современников текстах, здесь нет философского «коридора разномыслия». Здесь мы имеем приглашение к единению: «Се, стою у двери и стучу: если кто услышит голос Мой и отворит дверь, войду к нему, и буду вечерять с ним, и он со Мною» (Откр 3:20). Но это единение не столько ментальное, сколько изначально онтологическое: оно совершается не столько на уровне сознания человека, сколько на уровне его бытия в мире и в вечности.
Христианский тип диалога, по замечанию Х. Яннараса, можно назвать евхаристическим диалогом, поскольку в его основе лежит главное христианское таинство — Таинство Евхаристии (см. подр.: [Яннарас, 1992]). Христос говорит: «Пребудьте во Мне, и Я в вас. Как ветвь не может приносит плода сама собою, если не будет на лозе: так и вы, если не будете во Мне. Я есмь лоза, а вы ветви; кто пребывает во Мне, и Я в нем, тот приносит много плода; ибо без Меня не можете делать ничего. Кто не пребудет во Мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет; а такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают» (Ин 15:4–6). Евхаристический диалог предполагает вхождение человека в иную онтологическую реальность через Иисуса Христа и Церковь. Тесное единение людей в одном Теле Церкви, по ап. Павлу, возможно потому, что дан новый принцип жизни — жизнь в Духе: «потому что через Него и те и другие имеем доступ к Отцу, в одном Духе» (Еф 2:18). Х. Яннарас пишет: «Евхаристия объединяет жизнь человеческих личностей в общении Богочеловеческой природы Христа… выявляет экзистенциальный и одновременно богословский характер этического совершенства человека» (цит. по: [Завершинский, 2017, 235]). Здесь ключевыми идеями и характеристиками диалога становятся: синергийное взаимодействие Бога и человека, кенозис Бога, обожение, Церковь, таинства, Евхаристия.
С точки зрения христианского диалога человек остается немощным во грехе до прихода Христа. Но человеческая природа, воипостазированная Богом, подверглась радикальному исцелению, дошла до состояния нового века, Царствия Божия. Человек, благодаря евхаристической Жертве Христа, смог приобщиться к новой жизни. Евхаристический диалог является проявлением любви Бога к человеку: «ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную» (Ин 3:16). Таким образом, евхаристический диалог, представленный в учении Х. Яннараса, опирается на идею ипостасности бытия Бога и человека. Этот тип диалога носит онтологический характер. Ипостасность бытия Бога и человека дает возможность преодолеть трагизм человеческого бытия, раздвоенность и расколотость сознания (так называемые «коридоры голосов»), даруя человеку полноту бытия, наполняя человеческую пустоту, которая и является, собственно, основой его диалогичного, вопрошающего бытия. Что удивительно при этом: Бог наполняет человека так, что диалог с Богом не превращается в монолог.
Идею христианского евхаристического диалога, существующего по образу тринитарного единства Св. Троицы, прот. Георгий Завершинский дополняет такими характеристиками, как жертвенность и покаяние. По мнению прот. Георгия, М. Бубер упускает из диалога жертвенность, а Э. Левинас — Божественные истоки побуждения вступать в подлинный диалог. Прот. Георгий Завершинский, выстраивая «идеальную» концепцию диалога, соединяет элементы диалога Бубера, Левинаса, Х. Яннара-са, отмечая добровольную жертвенность и покаяние как необходимые черты подлинного диалога. Он описывает подлинный диалог как способность распознавания в себе и другом «вечного „ты“», как признание ценности другого, как примирение с Богом, осуществляющееся через покаяние. Определяя добровольную жертвенность как неотъемлемую характеристику диалога, прот. Георгий отмечает, что в этом плане Иисус Христос действовал диалогически, исходя из любви и выполняя волю Отца. Плодом Божественного диалога является сотворение и спасение мира. В основе этого диалога лежит онтология отношения, а образом бытия такого отношения является любовь.
Христианский (евхаристический) тип диалога опирается также на онтологию лич-ностности (см. подр.: [Мефодий Зинковский, 2014]). Если индивидуализм в контексте личностной онтологии возникает как результат изменения ипостасного человеческого бытия, не согласного с волей Бога, то необходим отказ от своеволия и избрание тесного, аскетического пути для духовного личностного возрастания, для восстановления нарушенной иерархии — «дух-душа-тело» — в человеческой экзистенции. Это позволит освободить и проявить личное, самовластное начало в человеке, которое призвано управлять человеческой природой, а не быть ведомым человеческими страстями. При этом важно именно самовластное, а не своевольное личное начало. В этом ключе неоценимую пользу вносит аскетическая практика — тот инструмент, при помощи которого возрождается, исцеляется падшее человеческое естество, осуществляется победа над страстями. Следование Христу рассматривается не как простое человеческое старание, волевое участие в упражнении добродетели, но как согласие и деятельный ответ на совершаемое Богом дело спасения человека. При этом особое значение приобретает покаяние как способ восстановления утраченного диалога. Именно в результате покаяния происходит прощение и примирение человека с Богом. Вспомним, что архим. Софроний (Сахаров) отмечал, что человек не может вступить в диалог любви, если нераскаянный грех беспокоит его сердце. Если грех представляет собой результат отделенности, разрыв от ипостасного бытия с себе подобными или с Богом, то покаяние означает признание данного разрыва, признание невозможности своего существования без Бога. Так характер диалога становится иным — покаянным и молитвенным, основанным на христианском (православном) богословии.
Заключение
Таким образом, можно констатировать определенные особенности философского, религиозно-философского и богословского (христианского) подхода к диалогу. При этом, как было показано выше, следует говорить об особом христианском типе диалога, который обозначен в терминологии Х. Яннараса как евхаристический диалог.
Для философии диалог — это смысловая коммуникация, поиск смысла, это разговор философских миров, ценностей, это диалог вопрошающих сознаний. В религиозном мировосприятии к этому перечню добавляется личная встреча с Богом. Диалог обретает не только горизонтальное, но и вертикальное измерение. Он становится для человека важным экзистенциальным событием, определяющим его дальнейшую жизнь. В богословском типе диалога, представленном в христианском (православном) миропонимании, показана единая органическая жизнь во Христе.
Богословский диалог открывает для человека иную онтологическую реальность. В верующих в меру их соединения со Христом открывается единая богочеловеческая жизнь — «всё во всём» — в единстве животворящего Духа. Кроме того, здесь надо обратить внимание на результаты богословского (евхаристического) диалога. Вхождение в иную онтологическую реальность становится для человека возможностью восстановления целостности человеческого существования (экзистенции), восстановления нарушенной иерархии «дух-душа-тело», что способствует ликвидации душевнотелесной рассогласованности бытия человека, преодолению отчуждения человека, трагизма человеческого бытия. Вхождение в иную онтологическую реальность способствует устранению греха разделения. Так восстанавливается ипостасное единство человеческой природы, которое в итоге заканчивается преображением человеческой природы, обожением.
Надо сказать, что идея личности, которую развивает Х. Яннарас в своем учении о человеке и евхаристическом типе диалога, позволяет иначе представить и обосновать религиозный характер диалога, а именно: диалога как ипостасного единения. Эта идея позволяет рассмотреть диалог не просто как отношение, но и как обмен свойствами; это взаимообогащение, связанное с приобретением новых свойств посредством богообщения. В основе такого понимания диалога лежит богословская идея перихорезиса, то есть взаимного проникновения (взаимного общения) свойств Божественной и человеческой природы в Богочеловеке Иисусе Христе. Богословский подход к диалогу делает перихорезис возможным и для человека. В. Н. Лосский пишет: «Христос становится человеком по любви, оставаясь Богом, и огнь Его Божества навсегда воспламеняет человеческую природу; вот почему святые, оставаясь людьми, могут быть причастниками Божества и становиться богами по благодати» [Лосский, 2006, 530]. В этом плане следует отметить, что именно христианство диалогично в подлинном смысле, поскольку здесь диалог возникает как целостный феномен, охватывающий всего человека, а не только сферу сознания. Ментальный характер диалога, присутствующий в философском и религиозно-философском его типах, снимается онтологическим характером, который появляется в богословском подходе к диалогу, но при этом богословский (евхаристический) диалог не превращается в монолог.