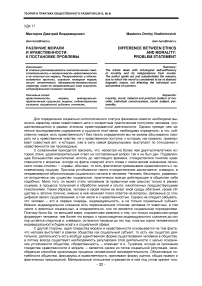Различие морали и нравственности: к постановке проблемы
Автор: Мастеров Дмитрий Владимирович
Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica
Рубрика: Философские науки
Статья в выпуске: 9, 2012 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается онтологическая самостоятельность и независимость нравственности в ее отличие от морали. Раскрываются и обосновываются причины, согласно которым мораль носит отвлеченный абстрактно-догматический характер, никак не затрагивающий саму сущность индивидуального сознания человека.
Нравственность, мораль, материальнопрактическая сущность морали, индивидуальное сознание, социальный субъект, личность
Короткий адрес: https://sciup.org/14934686
IDR: 14934686 | УДК: 17
Текст научной статьи Различие морали и нравственности: к постановке проблемы
The article deals with ontological self-sufficiency of morality and its independence from morals. The author spells out and substantiates the reasons, due to which the moral is considered to be of abstract dogmatic nature, not affecting the individual consciousness of a person.
Для определения социально-онтологического статуса феномена совести необходимо выяснить характер связи совестливого акта с конкретным практическим поступком человека, осуществляющегося в рамках этически ориентированной деятельности. Однако прежде чем заняться исследованием содержания и сущности этой связи, необходимо определить: а что, собственно говоря, есть нравственность? Без такого определения мы не можем обоснованно говорить ни о нравственном чувстве, ни о нравственном поступке, к которым, как правило, привязывают совестный акт, и которые, уже в силу самой формулировки, выступают по отношению к нравственности как производные.
С сожалением приходится признать, что, несмотря на более чем двухтысячелетнюю историю этики, удовлетворительный ответ на поставленный вопрос так и не был дан. Подавляющее большинство мыслителей, вплоть до настоящего времени, отождествляли понятие нравственности с моралью, исходя из факта созвучия этого слова с лексическим значением латинского слова «mores» - «нравы, обычаи», то есть фактически привязывали нравственность к человеческому социуму. Причина устойчивости такого отождествления заключается, очевидно, в неправомерной абсолютизации социального начала в человеке. Человек, бесспорно, развивался исторически как существо социальное, практически всегда действующее в обществе себе подобных. Мало того, он может стать человеком (в привычном нам смысле) только в рамках социума, в процессе получения и обработки знаний и опыта, накопленных предшествующими поколениями. Таким образом, человек в своей жизни не знает иной среды обитания, кроме общества и, вполне логично, именно в ней начинает поиск ответов на вопросы, связанные со спецификой своего существования, в том числе и с нравственностью. Однако не следует забывать, что человек – это в первую очередь, индивидуальность, а не только социальный субъект. Именно индивидуальное сознание есть первоначальное отличие человека от животных, в том числе и животных социальных, а следовательно, оно не является социальным порождением. Поэтому было бы, по меньшей мере, опрометчиво заявлять о том, что только социальная среда формирует человека, тем более что вопрос о происхождении индивидуального сознания до сих пор остается открытым и, очевидно, останется таковым до тех пор, пока мы корни человеческой индивидуальности будем искать в социальной сфере.
С другой стороны, идея тождества морали и нравственности основывается на том факте, что человек выступает в рамках общества как социальный субъект, то есть как существо деятельное; деятельность есть вообще единственная форма существования человека в обществе, а потому всегда существует необходимость регулировки этой деятельности с целью сохранения устойчивости общества. «Нравственность, – отмечает А.А. Гусейнов, исходя из признания тождества нравственности и морали, – является одним из типов социальной регуляции, своеобразным способом организации процесса человеческой жизнедеятельности. Объективные потребности общества, фиксируясь в нравственности, принимают форму оценок, общих правил и фактических предписаний. Материальные отношения отражаются в ней под углом зрения того, - 32 - как они могут и должны реализовываться в непосредственной деятельности индивидов и групп. Фиксируя те требования, которые общественное бытие предъявляет к сознательно действующим индивидам, нравственность выступает как способ практического ориентирования людей в общественной жизни. Она по своей роли однопорядкова с правом, обычаями и т.д.» [1, с. 20].
При этом, однако, упускается из виду, что деятельность человеческого индивида всегда осуществляется в двух формах: в деятельности сознания (идеальной форме) и в практическом поведении (материальной форме), причем последняя всегда производна от первой, поскольку совершенно невозможно представить у человека бессознательную материальную деятельность. Действительно, если отбросить в сторону человеческое «Я», индивидуальное сознание, то ни о каком творчестве не может быть и речи; человек становится безличен в своих мотивациях, как и животное, и вся его материальная деятельность сведется к реализации простейших инстинктивных устремлений, продиктованных необходимостью и физическими возможностями индивида.
Итак, материальная деятельность человека вторична. Однако именно на эту вторичную, производную форму деятельности и ориентированы принципы всякой этики, основанной на идее тождества морали и нравственности. Нравственность, отождествленная с моралью, представляется, в конечном итоге, всего лишь в качестве инструмента поведенческого регулирования, необходимого как для физического выживания человека в обществе, приспособления человека к общественным условиям, так и для устойчивого существования самого общества в целом – говоря языком биологии, для выживания популяции. По существу, к социальной жизни прикладываются специфические биологические атрибуты – приспособление и отбор.
Такая материально-практическая ориентация этических систем вполне объяснима. Человек как предмет изучения, как правило, рассматривается исследователем в качестве внешнего объекта, воспринимаемого и анализируемого лишь с позиций материальной, чувственно обусловленной деятельности. «Мы познаем субъекты, и мы никогда до конца их не познаем, – писал Ж. Маритэн. – Мы не познаем их в качестве субъектов, мы их познаем, только объективируя, занимая по отношению к ним объективную позицию, превращая их в объекты, поскольку объекты есть не что иное, как нечто в субъекте, переведенном в состояние нематериального существования интеллектуальным актом» [2, с. 232]. Деятельность же сознания этого «объекта» в его сущности восприятию исследователя недоступна, и потому информация о ней формируется не напрямую, но посредством анализа восприятий вторичной деятельности – через приложение к практическому поведению конкретного человека некоторых уже известных поведенческих стереотипов, якобы объективно отражающих те или иные процессы, происходящие в сознании. Стереотипы эти весьма относительны и не могут носить закономерного характера, поскольку, в отличие от поведенческих стереотипов животных, основаны не только и не столько на инстинктивнорефлекторной сфере, но, в первую очередь, на сознательном анализе исследователями ряда подобных ситуаций, обобщении и синтезе данных. Это выглядит вполне «научно», поскольку якобы подтверждается экспериментальными данными. Не случайно диалектический материализм, неустанно декларирующий свою «научность» и «объективность», решает проблему познания внутреннего мира человека через признание деятельности сознания как отражения объективной действительности: «Одной из самых фундаментальных проблем диалектического материализма является человек как субъект познания, отражающий объективный мир и преобразующий его посредством практики. Гносеологический и психологический анализы субъекта в его обусловленности объективной действительностью и общественной практикой тесно связаны с решением проблемы человека как личности в историческом материализме» [3, с. 13].
В этом случае все предельно просто. Если человек в своей деятельности есть лишь отражение объективного мира, а в отношении последнего познание истины возможно как познание объективных законов его существования, то и сознание человека, его внутренний мир каким-то образом определены этими законами, ведь «в марксистской теории познания сознание рассматривается как историческая категория и продукт общественного развития человека, хотя, разумеется, оно есть функция мозга, то есть особым образом организованной материи» [4, с. 15]. Вот только против такой «материализации сознания» свидетельствует один очевидный факт: несмотря на уже довольно продолжительную историю психиатрии, с помощью химических препаратов ученым не удалось вернуть хоть одного больного в нормальное состояние. Причина проста: химия воздействует лишь на материю, на мозг и нервную систему – то есть на носитель сознания, а не на само сознание, на тело, а не на человека. Этот простой факт сводит на «нет» все старания материалистов представить человека исключительно как продукт материи. Так что попытка исследовать сознание человека на основании внешних данных по меньшей мере сомнительна, и сомнения здесь вызывает именно «объективность», надежность, истинность этих данных.
Каждый человек уникален по определению, соответственно, и моделирование им своего поведения в некой стандартной ситуации также всегда уникально. Мало того, далеко не всякий человек может полноценно выразить в словесной форме процесс моделирования, происходящий в его сознании. Поэтому даже личные «показания» объекта об исследуемой ситуации могут не быть достоверными. Так что нет никакой гарантии, что конкретные поступки людей, внешне тождественные и протекающие в относительно сходных условиях, имеют одинаковую подоплеку в деятельности их индивидуальных сознаний. Отсюда возникает сомнение в возможности познания научными методами истинных причин внешней деятельности субъектов, их идеальной основы, коренящейся в человеческом сознании. Так что вполне справедливым представляется замечание Л.Н. Роднова: «Сознание не есть некий объект, который можно рассмотреть, так сказать, со стороны, познать научно и выразить в положительном знании о нем. Психология как раз и занимается подобным исследованием «сознания» через психологические акты человеческого поведения. Однако то, с чем мы тут имеем дело, есть лишь внешняя форма обнаружения сознания, а не само сознание» [5, с. 61].
Поэтому этика как наука не может быть ничем иным, кроме как наукой о практическом поведении и, соответственно, прикладной ее целью может являться только корректировка поведения на основе неких принципов, выработанных искусственно посредством анализа последствий различных вариантов действия, и отбора наилучших из этих вариантов, исходя из критерия наименьшей их вредности для материального существования человека и общества, то есть на основе того, что мы можем назвать моралью. Такая этика, будучи по своей основе материально ориентированной, стало быть, и социальна, и при этом, выполняя регулятивную функцию, неизбежно становится нормативной. Тождество морали и нравственности вполне вписывается в систему такой этики и закономерно из нее вытекает.
Однако с каких бы позиций не изучалась нравственность и не строилась этика – с научных (материальных) или философских (метафизических) – теоретически результатом такого исследования должна быть четкая и однозначно трактуемая понятийная структура. Мы же при описываемом подходе имеем дублирование понятий (мораль – нравственность), чего ни одна наука в классическом ее понимании допустить не может. Так же и философия, не будучи наукой, но, пользуясь некоторыми инструментами, характерными для научного познания, в первую очередь, логикой, не может принять такую двойственность понятий. Поэтому приходится сделать вывод о сомнительности в плане истины отождествления морали с нравственностью и заново поставить вопрос о происхождении и содержании нравственности либо совершенно исключить этот термин из оборота как не отражающий реального положения вещей. Однако последний вариант представляется несостоятельным, поскольку существует ряд понятий и феноменов, либо определяемых как нечто нравственное, либо с нравственностью связанных и, вместе с тем, совершенно необъяснимых с точки зрения морали. Примерами таковых являются совесть, любовь (разумеется, нравственная, а не половая), сострадание и т.п. Они не имеют в себе материально-корыстной подоплеки, не направлены на выживание индивида, на гармонизацию его отношений с социумом, а зачастую вызывают прямо противоположные последствия. Поэтому логично предположить, что реально существует некое начало, не имеющее ни материальной, ни социальной, ни биологической основы и, следовательно, не являющееся моралью и не относимое к законам, управляющим живой и неживой природой. Именно это начало и следует определять через понятие «нравственность».
Ссылки:
-
1. Гусейнов А.А. Социальная природа нравственности. М., 1974.
-
2. Маритэн Ж. Краткий очерк о существовании и существующем // Проблема человека в западной философии. М., 1988.
-
3. Ананьев Б.Г. Человек как предмет познания. М., 2000.
-
4. Там же.
-
5. Роднов Л.Н. Сознание. Познание. Личность. Кострома, 1995.
Список литературы Различие морали и нравственности: к постановке проблемы
- Гусейнов А.А. Социальная природа нравственности. М., 1974.
- Маритэн Ж. Краткий очерк о существовании и существующем//Проблема человека в западной философии. М., 1988.
- Ананьев Б.Г. Человек как предмет познания. М., 2000.
- Роднов Л.Н. Сознание. Познание. Личность. Кострома, 1995.