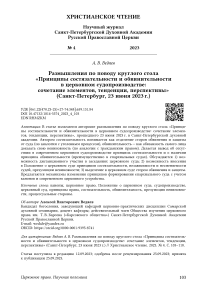Размышления по поводу круглого стола «Принципы состязательности и обвинительности в церковном судопроизводстве: сочетание элементов, тенденции, перспективы» (Санкт-Петербург, 23 июня 2023 г.)
Автор: Ведяев Алексей Викторович
Журнал: Христианское чтение @christian-reading
Рубрика: Церковное право. Научная полемика
Статья в выпуске: 4 (107), 2023 года.
Бесплатный доступ
В статье излагаются авторские размышления по поводу круглого стола «Принципы состязательности и обвинительности в церковном судопроизводстве: сочетание элементов, тенденции, перспективы», прошедшего 23 июня 2023 г. в Санкт-Петербургской духовной академии. Автором состязательность понимается как отделение сторон обвинения и защиты от суда (по аналогии с уголовным процессом), обвинительность - как обязанность самого лица доказать свою невиновность (по аналогии с гражданским правом). Делается вывод об отсутствии в современном церковном судопроизводстве принципа состязательности и о наличии принципа обвинительности (преимущественно в епархиальных судах). Обсуждаются 1) возможность дистанционного участия в заседаниях церковного суда; 2) возможность внесения в Положение о церковном суде принципов состязательности, независимости и несменяемости судей, презумпции невиновности; 3) выделение в церковном суде сторон обвинения и защиты. Предлагаются механизмы изменения принципов формирования епархиального суда с учетом канонов и современного церковного устройства.
Каноны, церковное право, положение о церковном суде, судопроизводство, церковный суд, принципы права, состязательность, обвинительность, презумпция невиновности, процессуальные стороны
Короткий адрес: https://sciup.org/140303086
IDR: 140303086 | УДК: [061.22(470.23-25)+27-74:348]:659.131.84 | DOI: 10.47132/1814-5574_2023_4_103
Текст научной статьи Размышления по поводу круглого стола «Принципы состязательности и обвинительности в церковном судопроизводстве: сочетание элементов, тенденции, перспективы» (Санкт-Петербург, 23 июня 2023 г.)
KHRISTIANSKOYE CHTENIYE [Christian Reading]
Scientific Journal
Saint Petersburg Theological Academy Russian Orthodox Church
No.4 2023
Alexey V. Vedyaev
Reflections on the Round Table Discussion
“Principles of Adversarial and Accusatory Proceedings in Church Jurisprudence:
Combining Elements, Trends, Prospects”
(St. Petersburg, June 23, 2023)
UDK [061.22(470.23-25)+27-74:348]:659.131.84
EDN RHMZKM
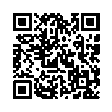
23 июня 2023 года в Санкт-Петербургской духовной академии состоялся круглый стол «Принципы состязательности и обвинительности в церковном судопроизводстве: сочетание элементов, тенденции, перспективы», организованный Обществом изучения церковного права им. Т. В. Барсова Санкт-Петербургской Духовной Академии Русской Православной Церкви (Барсовское общество)1. Настоящая статья содержит мои размышления как по тезисам, подготовленным д.ю.н. Ю.В. Оспен-никовым и заранее разосланным участникам мероприятия, так и по итогам уже состоявшегося круглого стола.
Принцип состязательности мною понимается так, как он закреплен в современном процессуальном праве России и иных государств. В уголовном процессе он понимается следующим образом: функция обвинения и защиты возлагаются на разные лица или институты, они равноправны, а суд выступает лишь арбитром. В иных процессуальных отраслях (гражданский, административный, арбитражный суд) понимание похожее, но в них не говорится о сторонах обвинения и защиты, поскольку таковые в данных процессах отсутствуют. Поэтому указанные отрасли оперируют общим понятием «стороны», разрешить спор которых призван суд.
Для того чтобы говорить далее про принцип состязательности в церковном суде, следует разобраться, на какую из процессуальных отраслей он, церковный суд, больше похож. На круглом столе 23 июня говорилось, что анализ Положения о церковном суде (Положение о церковном суде) показывает, что его авторы в основном ориентировались на уголовный процесс [Круглый стол Барсовского общества, 2023, 164], однако при составлении ст. 10, вероятно, про это забыли: она сначала говорит про две стороны (заявителя и обвиняемого), после чего сообщает о спорящих сторонах как об участниках процесса по разногласиям. Если с рассмотрением дел по обвинениям в совершении церковных правонарушений все предельно понятно, то процессы по спорам вызывают вопросы — какие именно дела здесь может рассматривать церковный суд? В действующих документах Русской Православной Церкви можно указать несколько таких случаев, например признание монашеского пострига недействительным при его совершении без благословения архиерея (Положение о монастырях и монашествующих, ст. 6.4; (Положение о монастырях и монашествующих)), признание церковного брака утратившим каноническую силу (документ «О канонических аспектах церковного брака», гл. 5; (О канонических аспектах церковного брака)). Однако оба эти вопроса подразумевают наличие вины определенного лица (соответственно священнослужителя, совершившего постриг, и супруга, виновного в распаде брачного союза). Следовательно, они уже могут быть подведены под процесс, связанный с обвинением одной из сторон, «побочным эффектом» которого будет разрешение иных вопросов (здесь можно указать аналог из светского права — гражданский иск, вытекающий из уголовного процесса).
На круглом столе 23 июня некоторыми участниками упоминалось о возможности рассмотрения догматических споров церковным судом. Однако здесь мы вновь имеем дело с виной человека, причем она будет заключаться даже не в наличии неортодоксальных взглядов, поскольку человек может думать все, что хочет, и это не несет опасности никому, кроме него самого. В то же время распространение таких взглядов уже может привести к негативным последствиям для иных лиц.
В связи с этим следует признать, что современный церковно-судебный процесс скорее похож на светский уголовный, при этом он может содержать какие-то иные элементы, похожие на административное или гражданское судопроизводство. Не следует забывать и о том, что некоторыми полномочиями в этой сфере наделен Патриарх: по Уставу Русской Православной Церкви (Устав Русской Православной Церкви, 2017) он вправе разрешать недоразумения между архиереями, которые обращаются к его посредничеству, без формального судопроизводства (гл. 4, ст. 7, п. «ш»). Этот институт чем-то похож на административное разрешение вопросов или на третейское судейство.
Таким образом, мною принцип состязательности понимается так, как он мыслится в российском уголовно-процессуальном праве. Анализ Положения о церковном суде говорит о том, что данный принцип в таком виде в нем отсутствует. Функция обвинения по совместительству возложена на суд, что свойственно для более ранней формы процесса — инквизиционной. При этом судебные полномочия проистекают из архиерейской власти (единоличной в епархиальном суде и коллегиальной в Высшем общецерковном суде) и делегируются судьям, которые выполняют лишь совещательную роль.
На круглом столе 23 июня говорилось о возможности создания институтов обвинения (некая «духовная прокуратура») и защиты [Круглый стол Барсовского общества, 2023, 165–166, 169]. Эти идеи представляются очень своевременными. При этом высказанные некоторыми выступающими мысли о том, что отделение обвинения от суда нарушит принцип полноты власти архиерея, выглядят необоснованными. Каноническое и догматическое предание действительно говорит о полноте власти архиерея, в т. ч. в судебных вопросах. Однако архиерей здесь должен быть именно судьей, но не обвинителем. На «духовную прокуратуру» можно было бы возложить и иные функции, крайне востребованные в современное время, а именно проверку церковных нормативных и правоприменительных актов на соответствие внутренним церковным документам, в первую очередь Уставу. Это актуально на всех уровнях церковной власти — как на общецерковном, так и на епархиальном, поскольку зачастую принимаемые документы противоречат друг другу. «Духовная прокуратура» могла бы действовать в этих вопросах как ее светский аналог — указывать на недостатки и выносить предложения соответствующим органам об их устранении.
Создание института «духовных адвокатов» также представляется целесообразным. В церковном суде, как и в светском, обвиняемый находится в заведомо уязвимом положении: как правило, он в подавленном состоянии; суд все же обычно подразумевает, что он виновен, что формирует к нему подсознательное негативное отношение. Эти недостатки и может компенсировать наличие защитника c нейтральным статусом. Можно также указать на католическое право, которое подразумевает возможность участия адвоката в церковных процессах.
Возникший на круглом столе вопрос о том, где брать кадры для обвинения и защиты, на мой взгляд, уже разрешен: с этим вполне может справиться новая магистерская программа Московской духовной академии «Современное каноническое право» (см. подр.: [МДА: Профиль «Современное каноническое право» ]. Думаю, в перспективе она может дать и квалифицированные кадры церковных судей, что будет способствовать разрешению проблемы, которая также упоминалась. Согласен и с высказанной мыслью о том, что можно провести эксперимент: попробовать привлечь обвинителей и адвокатов в нескольких церковных судебных процессах и посмотреть, что из этого получится.
В то же время не соглашусь с высказанной мыслью о том, что защитниками могут быть только клирики. На мой взгляд, ими могут быть и миряне. Здесь главный критерий — не наличие сана, а должная подготовка. То же самое, на мой взгляд, касается и стороны обвинения, хотя тут могут возникнуть определенные проблемы: например, обвинение лица, который выше по сану, может выглядеть несколько некорректно. С другой стороны, действующее Положение, говоря про подачу заявления о церковном правонарушении, делает ограничение только для архиереев — дело в отношении них может быть возбуждено только по заявлению архиерея или клирика (ст. 34). Таким образом, если мирянин вправе заявить на клирика, то он может и поддерживать такое обвинение. Впрочем, указанная норма нуждается в более глубоком анализе с канонической точки зрения.
Даже при выделении в церковном суде стороны обвинения проблема его объективности и беспристрастности не будет разрешена, по крайней мере на уровне епархиального суда. Причина здесь кроется в наличии взаимных зависимостей: обвиняемый и судьи зависимы как от архиерея, так зачастую и друг от друга. В светском процессе судья не может рассматривать дело, если он находится в каких-либо отношениях с любой из сторон. Решением может быть наделение судей гарантиями независимости и несменяемости: например, запрет снимать их с должности судей, переводить на иной приход или подвергать дисциплинарным взысканиям без санкции вышестоящей власти (Патриарха, Синода или Высшего общецерковного суда). Следует отметить, что об этих проблемах было сказано ранее в моих публикациях (см.: [Ведяев, 2021, 315]). Однако это представляется в настоящее время малореальным. Видится иной выход из ситуации, который раскрою позже.
Теперь перейду к принципу обвинительности . В российском процессуальном праве такое понятие отсутствует, поэтому его можно понимать по-разному. На мой взгляд, его логично трактовать как противоположность презумпции невиновности. Последнее подразумевает, что лицо считается невиновным до тех пор, пока обратное не будет доказано, причем обвиняющей стороной (см.: [Матузов, Малько, 2004, 236]). Антиподом такого подхода можно считать то, что лицо изначально подразумевается виновным, причем оно само обязано доказать свою невиновность. Данный подход имеется в современном праве, но не в процессуальном, а в материальном: гражданское право подразумевает освобождение от возмещения вреда в том случае, если лицо доказало отсутствие своей вины. Строго говоря, именно этот принцип прослеживается в канонах (см. подр.: [Волужков, 2018, 167]). В частности, есть два правила Карфагенского Собора. Одно адресовано епископам: «…да имеет свободу к оправданию в течение другого месяца, да не будет в общении, доколе не очистит себя доказательствами по делу…» (Книга правил, 2004, 28-е правило). Второе направлено к клирикам, которые должны «...защищати свое дело и попещися о доказательствах своея невиновности, да учинят сие в течение года, в который должны быти вне общения» (Книга правил, 2004, 90-е правило). При поверхностном рассмотрении здесь виден явный принцип обвинительности (см. подр.: [Волужков, 2018, 166]). Конечно, необходим их более глубокий анализ, в т.ч. на основе греческого оригинала и толкований. Не исключено, что таковой анализ может дать иное представление об этих нормах, которые на самом деле вполне могли быть понимаемы как право на защиту и опровержение обвинений. Но даже при понимании этих канонов как рассматривающих лицо заведомо виновным следует понимать, что эти правила писались в то время, когда понятие презумпции невиновности еще не появилось в юриспруденции. В наши же дни она является неотъемлемым атрибутом любой цивилизованной системы права, поэтому отказ от нее в канонике представляется необоснованным.
Логичным выводом из принципа обвинительности является то, что суды склонны выносить обвинительный приговор. Анализ судебных актов говорит о том, что это чаще всего относится к епархиальным судам: большинство их решений заканчиваются осуждением. В то же время в Высшем общецерковном суде, который в подавляющем большинстве случаев работал по второй инстанции, значительная часть решений имела оправдательный характер. Единственной причиной здесь видится факт зависимости от епархиального архиерея как судей епархиального суда, так и самого обвиняемого, чего, как правило, нет в Высшем общецерковном суде. Более того, в светском праве практически любого государства рассмотрение судьей дела зависимого от него лица является абсолютно недопустимым. Это еще раз подтверждает правоту высказанного мною тезиса о том, что самым необходимым для функционирования церковного суда как инструмента по обеспечению справедливости является принцип независимости судей .
На мероприятиях Барсовского общества многократно говорилось о том, что даже в больших епархиях все клирики обычно являются в какой-то степени зависимыми друг от друга, не говоря уже о небольших епархиях, где порой создать полноценный суд вообще невозможно (см. подр.: [Оспенников, 2023, 192]). Конечно, можно вспомнить о том, что Положение о церковном суде дозволяет в виде исключения, по благословению Патриарха, возлагать полномочия епархиального суда на епархиальный совет (ст. 23). Но бывают настолько крохотные епархии, где даже это затруднительно. Не стоит забывать и о том, что с 2008 г., когда было принято Положение о церковном суде, прошло много времени, за которое сильно поменялось управленческое и территориальное устройство Русской Православной Церкви. Одно из важнейших изменений — появление митрополий. В нынешних условиях представляется целесообразной реформа церковного суда, а именно переход от епархиальных судов к судам митрополий. Для епархий, не входящих в состав митрополий, или для митрополий с малым количеством епархий возможно объединение в судебный округ нескольких епархий (преимущественно соседних) по решению священноначалия в лице Патриарха и Синода. В этом случае церковный суд можно формировать следующем порядке: от каждой епархии избираются или назначаются судьи, а решение утверждается тем архиереем, в юрисдикции которого состоит подсудимый. При таком составе зависимыми будут лишь те судьи, которые принадлежат к епархии этого архиерея (также об этом см.: [Круглый стол Барсовского общества, 2023, 165, 168, 169]).
В перспективе можно было бы перейти на иной механизм формирования таких судов, а именно осуществление суда только архиереями митрополии или судебного округа, без участия судей-клириков. В частности, Положение о митрополиях в редак -ции 2018 г. (Положение о митрополиях) предусматривает возможность рассмотрения архиерейским советом митрополии конфликтных ситуаций, затрагивающих всю митрополию (ст. 10 п. «п»). Почему бы не разрешить ему рассмотрение судебных дел? К тому же осуществление суда собором архиереев больше соответствует канонам (12-е и 29-е правила Карфагенского Собора (Книга правил, 2004)): епископа должны судить не менее 12 архиереев, клириков — шесть для священников и три для диаконов (в их число входит и их собственный епископ), прочих клириков (имеются в виду церковнослужители) — их епископ. Из анализа этих правил следует сделать вывод, что в них содержится идея коллегиальности, которая может быть осуществлена при наличии не менее трех архиереев. Это логично: при двух архиереях все будет решать председатель, поскольку при разных мнениях приоритет будет отдаваться его голосу. Поэтому сейчас указанные в канонах цифры о количестве архиереев могут даже не соблюдаться полностью, главное, чтобы был выдержан минимум.
При осуществлении суда собором архиереев митрополий или созданных судебных округов потребность в судьях в лице священников или викарных архиереев полностью отпадет. При этом можно будет рассчитывать на увеличение объективности и беспристрастности рассмотрения дел. Конечно, субъективный фактор останется — некоторая зависимость архиереев митрополии от ее главы, корпоративное сознание и солидарность. Но все же он будет однозначно ниже, чем при современном механизме формирования епархиальных судов, что и видно по результатам деятельности Высшего общецерковного суда.
В связи с этим возникает еще один вопрос, который затрагивался в рамках круглого стола 23 июня: каким образом будет финансироваться проезд сторон к месту проведения судебного заседания [Круглый стол Барсовского общества, 2023, 165]. При этом была высказана мысль, что дистанционный формат не соответствует канонам, поскольку они подразумевают личное участие [Круглый стол Барсовского общества, 2023, 165]. С данным мнением невозможно согласиться. Вероятно, оно проистекает из 29-го правила Карфагенского Собора (Книга правил, 2004), которое говорит, что обвиненный епископ должен явиться в суд в назначенное время. Идея данного канона — невозможность рассмотрения дела без участия обвиняемого (пусть даже и явился представитель), обязанность делать это только при его личном присутствии. Современные технические средства позволяют это сделать и без поездки в место проведения суда. То, что каноны не говорят про дистанционное проведение судебных заседаний, объясняется предельно просто: таковые отсутствовали на момент составления правил. Не следует забывать, что в течение нескольких последних лет даже заседания Священного Синода часто проводились в дистанционном формате, что было обусловлено пандемией коронавируса. В российском процессуальном праве нормы об использовании в некоторых случаях дистанционных средств существуют уже достаточно давно, а за последние несколько лет они были значительно расширены — вероятно, тоже не без влияния пандемии. Весьма актуально будет их включение и в Положение о церковном суде2.
Использование таких средств позволит значительно ускорить церковное судопроизводство. В рамках предлагаемых изменений это станет особо важным для больших по территории епархий и митрополий. Чрезвычайно актуально это было бы для Высшего общецерковного суда. Проведение его заседаний не более чем 1–2 раза в год значительно замедляет процесс обжалования решений епархиальных судов и крайне негативно характеризует современную церковно-судебную систему. Инертность и неповоротливость в этом вопросе объяснима очень просто: практически все судьи возглавляют епархии за пределами московского региона, а некоторые даже за границей, поэтому собраться вместе для них затруднительно. Поэтому использование в Высшем общецерковном суде современных дистанционных средств представляется наилучшим выходом из ситуации.
Резюмируя все изложенное, можно сделать следующие выводы:
-
1. Принцип состязательности мною понимается так, как он изложен в светском уголовном процессе, к которому более всего тяготеет церковно-судебное право: строгое разделение сторон обвинения, защиты и разрешения дела. Принцип обвинитель-ности мною понимается как восприятие лица виновным до тех пор, пока оно само не докажет свою невиновность.
-
2. В современном церковном судопроизводстве принцип состязательности отсутствует, а принцип обвинительности, наоборот, присутствует.
-
3. Целесообразно введение сторон защиты и обвинения, причем наличие последней никак не противоречит принципу наличия у архиерея всей полноты власти. Однако без наделения судей гарантиями независимости и несменяемости даже эти меры не смогут обеспечить объективность и беспристрастность церковного суда.
-
4. Представляется обоснованной реформа церковного суда с учетом современного устройства Русской Православной Церкви: избрание судей от каждой епархии митрополии или созданных из нескольких епархий судебных округов, или даже осуществление суда архиереями таких образований, без судей-клириков, что будет больше соответствовать канонам и сделает суд более объективным и беспристрастным.
-
5. В текст Положения о церковном суде желательно внести понятие принципов церковного суда, причем не только состязательности, но и иных — презумпция невиновности, независимость и несменяемости судей и т. д.
Список литературы Размышления по поводу круглого стола «Принципы состязательности и обвинительности в церковном судопроизводстве: сочетание элементов, тенденции, перспективы» (Санкт-Петербург, 23 июня 2023 г.)
- Книга правил (2004) — Книга правил святых апостол, святых Соборов Вселенских и Поместных и святых отец. М.: Русский Хронограф, 2004. 448 с.
- О канонических аспектах церковного брака — О канонических аспектах церковного брака: Документ принят Архиерейским Собором 29 ноября — 2 декабря 2017 г.: URL.: http:// www.patriarchia.ru/db/text/5075384.html (дата обращения: 09.09.2023).
- 2 Насколько мне известно, в проекте поправок в Положение о церковном суде, разосланном Управлением делам в епархии в сентябре 2021 г., незадолго до планировавшегося Архиерейского Собора, содержались нормы о возможности дистанционного проведения судебных заседаний.
- Положение о митрополиях — Положение о митрополиях Русской Православной Церкви: Принято Священным Синодом Русской Православной Церкви 15 октября 2018 г.: URL.: http://www.patriarchia.ru/db/text/5284256.html (дата обращения: 09.09.2023).
- Положение о монастырях и монашествующих — Положение о монастырях и монашествующих: Принято Архиерейским Собором 29 ноября — 2 декабря 2017 г.: URL.: http:// www.patriarchia.ru/db/text/5074472.html
- Положение о церковном суде — Положение о церковном суде Русской Православной Церкви: Принято Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 2008 г., с изменениями, внесенными Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 2017 г.: http:// www.patriarchia.ru/db/text/5082532.html (дата обращения: 09.09.2023).
- Устав Русской Православной Церкви (2017) — Устав Русской Православной Церкви: Принят Архиерейским Собором 2000 г., в редакции 2017 г.: URL.: http://www.patriarchia.ru/ db/text/133114.html (дата обращения: 09.09.2023).
- Ведяев (2021) — Ведяев А.В. Нормативное регулирование деятельности церковного суда в Русской Православной Церкви: история, современное состояние, проблемы и перспективы // Христианское чтение. 2021. № 3. С. 305-320.
- Волужков (2018) — Волужков Д.В. К вопросу об основаниях церковного судопроизводства: на примере «Положения о церковном суде Русской Православной Церкви» от 2008 г. // Христианское чтение. 2018. № 3. С. 158-171.
- Матузов, Малько (2004) — МатузовН.И., МалькоА.В. Теория государства и права: Учебник. М.: Юрист, 2004. 512 с.
- МДА: Профиль «Современное каноническое право» — Сайт МДА. Профиль специальности «Современное каноническое право. URL.: https://mpda.ru/profil-sovremennoe-kanonicheskoe-pravo/ (дата обращения: 09.09.2023).
- Круглый стол Барсовского общества (2023) — Баган В., свящ, Волужков Д.В., Гай-денко П. И., Митрофанов А. Ю, Оспенников Ю. В., Тарнакин Н А, Хохлов А. А., Шершнева-Цитульская И.А Принципы состязательности и обвинительности в церковном судопроизводстве: сочетание элементов, тенденции, перспективы // Христианское чтение. 2023. № 3. С. 147-171.
- Оспенников (2023) — Оспенников Ю.В. Актуальные проблемы изучения церковного права (промежуточные итоги работы Барсовского общества) // Христианское чтение. 2023. № 1. С. 180-198.