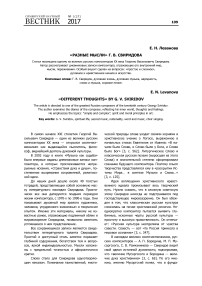"Разные мысли" Г. В. Свиридова
Автор: Леванова Елена Николаевна
Журнал: Симбирский научный Вестник @snv-ulsu
Рубрика: Факультету культуры и искусства Ульяновского государственного университета - 20 лет
Статья в выпуске: 1 (27), 2017 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена одному из великих русских композиторов XX века Георгию Васильевичу Свиридову. Автор рассматривает дневниковые записи композитора, отражающие его внутренний мир, мысли, переживания. Особый акцент сделан на вопросах: «простое и сложное», духовное и нравственное начала в искусстве.
Г. в. свиридов, духовная жизнь, духовная музыка, народность, слово и музыка, хоровое пение
Короткий адрес: https://sciup.org/14114215
IDR: 14114215
Текст научной статьи "Разные мысли" Г. В. Свиридова
В самом начале XXI столетия Георгий Васильевич Свиридов — один из великих русских композиторов XX века — открылся соотечественникам как выдающийся мыслитель, философ, виднейший деятель духовной культуры.
В 2002 году в книге «Музыка как судьба» были впервые изданы дневниковые записи композитора, в которых прослеживаются непрерывные искания, «странствия духа и души», постепенное вызревание сокровенной, религиозной идеи.
До наших дней дошло около 40 толстых тетрадей, представляющих собой основную массу литературного наследия Свиридова. Практически все они датируются поздним периодом жизни композитора, с 1970-х по 1990-е годы. Они показывают духовный мир зрелого художника, человека, умудренного жизненным и творческим опытом. Именно эти материалы, никому не известные ранее, отражающие подлинный облик и мировоззрение Свиридова, позволили изменить устоявшееся о нем представление.
Все сохранившиеся записи являются свидетельством литературного таланта Свиридова. Простой и доступный стиль заметок поражает глубиной содержания, богатством тем и вопросов, яркой индивидуальностью. Мысли изложены с предельной точностью и афористически кратко.
Слово стало для Свиридова одухотворяющим началом. Понимание таинственной, мисти- ческой природы слова уходит своими корнями в христианское учение о Логосе, выраженное в начальных стихах Евангелия от Иоанна: «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог» [3, с. 562]. Литургическое Слово и классическая русская поэзия (выросшая из этого Слова) в значительной степени сформировали сознание будущего композитора. Поэтому смысл творчества представлялся ему в «раскрытии Истины Мира… в синтезе Музыки и Слова…» [3, с. 125].
Идея воплощения христианского нравственного идеала пронизывает весь творческий путь. Нужно сказать, что в сложную советскую эпоху Свиридов никогда не подстраивался под господствующее мировоззрение. Он был убежден в том, что классическая русская культура сложилась на почве христианской религии. Неоднократно композитор пытается выявить глубинные, исконные черты русской культуры — простоту и высокую нравственность. Он отмечает: «Русская культура неотделима от чувства совести. Совесть — вот что Россия принесла в мировое сознание» [3, с. 347].
В наследии великих соотечественников, русских композиторов — А. П. Бородина, М. П. Мусоргского, С. В. Рахманинова — Свиридов видит свой идеал истинной духовности, подчеркивая, что «величие Мусоргского и Бородина — величие духа христианина» [3, с. 65]. По его мнению, именно Мусоргский понял, что в фунда- менте русской культуры лежат народная песня и старая церковная музыка.
Наряду с Мусоргским, Свиридов также высоко ценит Рахманинова, считая его великим духовным композитором русского православия. Он называет его «Всенощное бдение» «последней вспышкой Христианства в Русской музыке». Влияние Рахманинова становится заметным в смелых формах хорового письма, в красочной колокольности, в сплаве церковного и народнопесенного начал, в претворении древнерусской певческой традиции.
Проблему духовности, которая явилась для него залогом существования феномена искусства, Свиридов впервые обозначил в размышлениях 1970-х годов. Он утверждает: «Искусство — не только искусство. Оно есть часть религиозного (духовного) сознания Народа. Когда искусство перестает быть этим сознанием, оно становится «эстетическим» развлечением» [3, с. 196]. Подчеркивая мысль о том, что «искусство, в котором присутствует Бог как внутренне пережитая идея, будет бессмертным», он предает остракизму все «передовое» новаторство, так как оно «рождено вне веры в Бога» и «проповедует Зло под видом изобличения».
По мнению композитора, высокое искусство «создается путем озарения, откровения, в редкие минуты, которые посещают особо великие души». Именно в такие моменты и были созданы лучшие страницы его музыки.
Во многих сочинениях Свиридова отчетливо прослеживается связь с многовековой традицией духовной музыки от Древней Руси и до московской школы «Нового направления» — Гречанинова, Кастальского, Рахманинова. Сам композитор признавался, что отголоски своих будущих сочинений впервые услышал в раннем детстве, в церкви. Хор, церковное пение произвели на него как на музыканта громаднейшее впечатление. Все это нашло отражение в его творчестве — в прямом использовании канонических богослужебных текстов и напевов, в специфическом понимании хора, чутком, внимательном отношении к слову и его смыслу. Это становится более явным к 1970-м годам. Созданные в этот период три хора из музыки к трагедии А. К. Толстого «Царь Федор Иоаннович» — знаменательный поворот, определивший дальнейшие пути творческих исканий Свиридова. Композитор окончательно сформировал идею обращения к православной литургической поэзии.
Вершину этой линии представляет его последнее сочинение — грандиозный хоровой цикл «Песнопения и молитвы», созданный в
80—90-е годы, когда Свиридов интенсивно работал в области духовной музыки. Автор поставил перед собой необычную задачу — создать светскую по форме, но православную по духу «литургическую музыку» для солистов, хора и оркестра. На протяжении долгого времени он не мог дать точного жанрового определения этой масштабной композиции. Первоначально она называлась «духовным» или «хоровым концертом», но в конечном итоге за ней закрепилось окончательное название — «Песнопения и молитвы». Это подлинный шедевр, ставший завершением жизненного и творческого пути Свиридова, его «духовного странствия».
Чрезвычайно важным для постижения свиридовского творчества и мироощущения становится понятие народности, которое он определяет следующим образом: «неотделимость искусства от народа, чуткость к народному сердцу, любовь, внутренняя свобода и простота… и, наконец, неподкупность совести» [3, с. 293]. Критерий народности, наряду с духовностью, является для Свиридова «краеугольным камнем» в оценке явлений русской и мировой культуры. Композитор противопоставляет народное искусство, обращенное ко всем людям, чуждому и надуманному элитарному искусству. Он подчеркивает: «Народное — которое способно восприниматься нацией целиком и само адресовано народу как целому» [3, с. 226].
Понимая феномен творчества как вдохновение свыше, он видит его смысл в стремлении к «раскрытию Истины мира». Поэтому процесс творчества рассматривается как особое призвание свыше, вдохновенное служение, требующее безграничной самоотдачи. Свиридов определяет два противоположных типа художников. Есть, по его мнению, поэты национальные (народные), которые «выражают дух нации, дух народа». Это А. Блок, С. Есенин, Н. Рубцов, Мусоргский, Корсаков, Рахманинов. Противоположный им тип — «прислуга». Такой поэт или художник служит силе, стоящей над народом, и, как правило, чужеродной силе под видом национального беспристрастия, «национализма».
Не меньшую значимость представляла для Свиридова проблема «простого и сложного» в искусстве. Задавая вопрос: «Какое искусство вы любите, простое или сложное?», тут же отвечает: «Простота или сложность сама по себе не представляют ценности. Но существует определение «Божественная простота», и нет «Божественной сложности», потому что «простота ценна тогда, когда она появляется как озарение, откровение, наитие, вдохновение не ра- зумного, а духовного Божественного начала… Сложность есть понятие человеческое, для Божества — мир прост» [3, с. 222]. Согласно Свиридову, пример такой возвышенной простоты — хор «Любовь святая»… «Любовь, беззащитная… и жертвенная».
Слушая эту музыку, легко понять, что главное для Свиридова — внешняя простота и внутренняя цельность душевного мира, чуждая каких-либо противоречий. «Сложное» в искусстве, по его мнению, далеко не всегда является показателем глубокого смысла, идейной содержательности: «Глубина — есть понятие духовное, в то время как сложность применяется нами чаще всего к построению, архитектонике произведения искусства, хотя, несомненно, существует и душевная сложность (сложность внутреннего мира)» [3, с. 301].
Обращаясь к внутреннему миру человека, композитор дает необычайно точный и содержательный ответ на вопрос, какой ценен для художника: простой или сложный. Он персонифицирует простоту и сложность духовного мира в полярно противоположных евангельских образах — Христа и Иуды. Свиридов пишет: «Духовный мир может быть очень прост и вместе с тем очень глубок. Высшим выражением этого характера представляется Христос. Этот мир не ведает раздвоения, какого-либо внутреннего противоречия. Это линия, устремленная в бесконечность. Противопоставляя ему мир Иуды, который несет раскол, двойственность, противоречие, внутреннюю катастрофу, смертность…» [3, с. 301], автор приходит к сокровенному выводу: «Мир полон тайн… Священные книги древности полны тайн. Самая же великая тайна — Христос» [3, с. 545].
На протяжении всей своей жизни Свиридов пытается определить собственный путь, свое место в искусстве. Он явственно видит смысл своего творчества в современном мире, говоря: «Моя музыка — некоторая маленькая свеча «из телесного воска», горящая в бездонном мире преисподней» [3, с. 227].
В середине 1970-х Свиридов понял, что будущим музыкального искусства является Песня, «синтез слова и музыки, символическое искусство». Он утверждает: «Моя форма — песня. Отдельная, заключенная в себе идея… Пение, мелодия тянет к простоте, четкости, к формуле, к символу». Его истинным идеалом было хоровое пение как национальная и духовная природа русского музыкального сознания. Поэтому композитор противопоставлял живое звучание хора, человеческого голоса «бездушным меха- низмам» — органу и оркестру. По его словам, «Православие — музыка статична, всё внутри, в душе. Мелодия — хор — гимн. Восторг мира! Выразительность интонации. Идея — свобода. Инструмент — от Бога — голос, хор» [3, с. 374].
Размышления Свиридова 1980—1990-х годов посвящены вопросам состояния современной русской музыки. Одно из самых показательных, почти пророческих высказываний композитора датируется второй половиной 1980-х годов: «Если дать волю воображению и представить себе землю после атомной войны — трудно подумать, что музыка будет звучать над мёртвым камнем… Какой музыкальный инструмент уцелеет? Скорее всего, человеческий голос. Ощутив душевную потребность в музыкальных звуках, человек должен запеть. Один и тот же инстинкт родит разговорную речь и совместное пение». Он подчеркивает: «Вот куда я веду… — к хору, к хоровому пению, к соединению души в звуках, в совместной гармонии. Хор — насущное (сейчас!) искусство» [3, с. 357].
В тетрадях последнего десятилетия жизни Свиридова значительно возросла социальнополитическая заостренность, критическое, часто негативное отношение к современной действительности. Его мнение о деятельности Союза композиторов резко отрицательное: «Наша музыкальная (композиторская) жизнь — это глухой закоулок, где царят произвол правящего меньшинства, окруженного огромным бюрократическим аппаратом, злоупотребление диктатурой, пренебрежение ко всякому подобию честной мысли, карьеризм и грандиозное стяжательство». Он отметил, что искусство лишилось «самого главного — своей воспитательной роли. Великое искусство оторвано от народа» [3, с. 438].
Свиридов с болью отзывается о неуважении русских людей к своему историческому и культурному достоянию: «Нигде и никогда я не встречал такой ненависти к русскому, как у нас в стране». Он говорит о положении русской нации в современном мире, об утрачиваемом чувстве национального самосознания, называя русских полурабским населением, не имеющим самостоятельной духовной жизни.
Одна из последних свиридовских записей датируется 1 мая, Пасхой 1994 года. Он восклицает: «Боже, неужели это не фарс, а подлинное Возрождение, медленное, трудное очищение от Зла? Но кажется иногда, что именно это наиболее верный путь. А народ расслоился: с одной стороны, окончательное падение в бандитизм, проституцию во всем, с другой стороны — Церковь и интерес к жизни Духа». Композитор вспоминает пасхальную службу 1945 года, когда «было более мягко, более светло». «Была смертельная усталость людей, но и Надежда. Теперь надежда лишь в спокойствии и ТЕРПЕНИИ (опять и опять). Кажется, что это есть в церковных людях. Терпение, но и действие. Пошли, Господи, блага и здоровья всем близким. Помилуй нас!» [3, с. 619].
Несмотря на это, Свиридов до конца своих дней верил в «возрождение Христианства в России, которое приведет к «новому его ощущению, пониманию, к новому чувству этого великого и вечного учения. С этим будет связано и новое Христианское искусство: и светское, и храмовое, церковное» [3, с. 549].
-
1. Белоненко А. С. Из чего рождается гармония. 2000. URL: http//opentextnn/ru/music/personalia/ sviridov/?id==1369.
-
2. Белоненко А. С . Книга о Свиридове. Размышления, высказывания, статьи, заметки / сост. А. А. Золотов. М. : Советский композитор, 1983. 312 с.
-
3. Свиридов Г. В . Музыка как судьба. М. : Молодая гвардия, 2002. 800 с. (Сер. «Библиотека мемуаров»).
-
4. Сохор А. Н . Георгий Свиридов. М. : Музыка, 1972. 345 с.
Список литературы "Разные мысли" Г. В. Свиридова
- Белоненко А. С. Из чего рождается гармония. 2000. URL: http//opentextnn/ru/music/personalia/sviridov/?id= = 1369.
- Белоненко А. С Книга о Свиридове. Размышления, высказывания, статьи, заметки/сост. А. А. Золотов. М.: Советский композитор, 1983. 312 с.
- Свиридов Г. В. Музыка как судьба. М.: Молодая гвардия, 2002. 800 с. (Сер. «Библиотека мемуаров»).
- Сохор А. Н. Георгий Свиридов. М.: Музыка, 1972. 345 с.