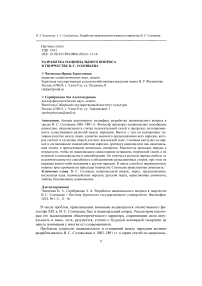Разработка национального вопроса в творчестве В. С. Соловьева
Автор: Чимитова И.З., Серебрякова З.А.
Журнал: Вестник Бурятского государственного университета. Философия @vestnik-bsu
Статья в выпуске: 1, 2024 года.
Бесплатный доступ
Авторы анализируют специфику разработки национального вопроса в трудах В. С. Соловьева 1883-1891 гг. Философ признавал национальное своеобразие ценностью, национальность считал положительной силой и предрекал долговременность существования различий между народами. Вместе с тем он подчеркивал духовное родство между ними, единство высокого предназначения всех народов, которое состоит в служении общей для всех вселенской идее. Соловьев выступал за мирное и согласованное взаимодействие народов, критикуя национализм как национальный эгоизм и преследование низменных интересов. Мыслитель призывал народы к открытости, чтобы их национальное самосознание оставалось творческой силой, а не погрязло в самодовольстве и самообожании. Он отмечал в русском народе свободу от исключительности и способность к объединению разъединенных сторон, при этом не выражая какого-либо недоверия к другим народам. В цикле статей по национальному вопросу ярко проявляется присущая творчеству Соловьева нравственная доминанта.
В. с. соловьев, национальный вопрос, народ, предназначение, вселенская идея, взаимодействие народов, русский народ, нравственная доминанта, любовь благоволения, национализм
Короткий адрес: https://sciup.org/148328497
IDR: 148328497 | УДК: 130.2 | DOI: 10.18101/1994-0866-2024-1-11-16
Текст научной статьи Разработка национального вопроса в творчестве В. С. Соловьева
Чимитова И. З., Серебрякова З. А. Разработка национального вопроса в творчестве В. С. Соловьева // Вестник Бурятского государственного университета. Философия. 2024. № 1. С. 11‒16.
В числе проблем, привлекавших внимание выдающегося отечественного философа ХIХ в. В. С. Соловьева, был и национальный вопрос. Рассмотрим некоторые его высказывания общетеоретического характера, сохранившие свою актуальность и ныне, хотя, разумеется, утопия о будущей всемирной теократии не нашла понимания у многих его современников.
Проблемы сущности национального и отношений между народами активно разрабатывались В. С. Соловьевым в 1883‒1891 гг. в серии статей по националь- ному вопросу, которые, по оценке В. В. Зеньковского, являются «настоящим вкладом» в его разработку [1, с. 26]. Важно, что Соловьев признавал ценностью своеобразие народов, долговременность, даже вечность существования различий между ними, потому что они должны быть обособленными частями человечества [2, с. 608]. Он прогнозировал не только сохранение, но и усиление этих различий при исчезновении враждебности и обид [3, с. 299].
Народ как таковой представлялся ему положительным феноменом, и каждый из народов виделся ему предназначенным для выполнения особой миссии, имеющим свою собственную идею. При всей важности последней для конкретного народа эта идея важна и нужна также и «всему миру» [4, с. 619–620; 3, с. 297].
Владимир Соловьев высказался также и по проблеме самобытности народного творчества, которое, по его мнению, является национальным как по своим истокам, так и по форме выражения. Данному положению соответствует и его утверждение о ценности культуры каждого народа. Мыслитель подчеркивал принципиальное родство народов, во-первых, сравнивая их с отдельными органами в теле человечества, во-вторых, утверждая, что все народы слагаются из стихийных, сознательных и волевых элементов [4, с. 620]. Духовно роднит народы и то, что в процессе своего развития все они выполняют «настоящую жизненную задачу», являющуюся также их обязанностью, которая объединяет всех их «в общем вселенском деле» [4, с. 620]. Как видим, не вызывающие возражений большинства читателей и сегодня положения о важной роли каждого народа, духовном родстве народов и ценности различий между ними развивались философом в контексте исторической обязанности народов служить установленной Богом вселенской идее [2, с. 587].
Соловьев высказывался за мирное и согласованное взаимодействие народов, считал, что ни одному из них нет никакой необходимости противостоять прочим. Напротив — всем им следует действовать вместе с остальными и во имя них, поскольку смысл существования всех их — «в человечестве» [2, с. 594, 611]. Глубоко гуманистическую идею родства народов мыслитель выразил, отстаивая их равенство, которое, по его мнению, должен проявлять субъект волевого отношения. Этот постулат формулируется им через пожелание данным субъектом такого же блага всем прочим народам, «как и своему собственному» [4, с. 299].
Тем не менее опора Соловьева, прежде всего на христианские ценности у некоторых ученых, особенно с учетом современной конфессиональной ситуации в мире, вызывает неоднозначную реакцию. С одной стороны, философа упрекают в том, что его внимание было сконцентрировано исключительно на христианстве, а вопрос о месте сторонников других фундаментальных религий (буддизма, иудаизма, ислама) в его проекте будущего мирового всеединства «не был им поставлен». Б. П. Балуев исходя из содержания других сочинений В. С. Соловьева полагает, что «он, очевидно, считал само собой разумеющейся христианизацию всего мира» [5, с. 92].
Другую точку зрения высказывают, например, Т. Ф. Столярова и В. И. Пантин, подчеркивая как достоинство то, что традиция мыслителя — и истинно русская, христианская, и одновременно с этим общечеловеческая. В заслугу Соловьеву ставят как раз то, что благодаря именно его усилиям такая традиция, и прежде существовавшая в отечественной культуре, была высвечена, связана «с идейны- 12
ми достижениями других культур» и тем самым стала «явной, современной, способной к дальнейшему развитию» [6, с. 48], а, по словам В. Ф. Бойкова, русская мысль у Соловьева получила « вселенское выражение» [7, с. 7].
Сама суть всеединства предполагает всемирный, общечеловеческий масштаб осмысления, огромную эрудицию автора этой концепции, его свободную ориентацию в истории и культуре как Запада, так и Востока, и Соловьев обладал всеми этими качествами. Не случайно цитированные авторы рассматривают его как одного из выразителей идеи синтеза культур, которая в разных формах ставилась и формулировалась во многих его произведениях, например, когда речь идет о синтезе западноевропейской и российской культур, о синтезе западных и восточных ценностей. Более того, в самой личности мыслителя они видят пример синтеза русской, античной и западноевропейской культур [6, с. 160, 165]. Наконец, еще одним аргументом в защиту позиции Соловьева от упреков в невнимании к нехристианским ценностям может служить направленность его статей по национальному вопросу против какого-либо эгоизма и проявлений национализма, а также их публицистическая острота.
Философ хотел, чтобы национальное самосознание было великим делом и творческой силой, а для этого его носителям надо быть открытыми вовне, не концентрироваться лишь на себе. Вместе с тем он предостерегал народы от национального самодовольства, которое может дойти «до самообожания, тогда естественный конец… есть самоуничтожение», — предрекал мыслитель, напоминая своим адресатам о поучительности басни о Нарциссе и «для целых народов» [8, с. 632].
Апеллируя к авторитету Христа, признававшего «существование… всех наций », Соловьев отмечал факт утверждения христианской истиной неизменности «существования наций и прав национальностей» [2, с. 595]. В упомянутом цикле статей в рассуждениях о России и русском народе, отмечая в нем свободу от исключительности и способность к объединению разъединенных сторон, мыслитель не выражал какого-либо недоверия к любым другим народам внутри своей страны и в мире в целом. Не абсолютизируя русских начал, полагают А. Н. Аринин и В. М. Михеев, он их и не отрицал [9, с. 86].
В разработке различных аспектов национального вопроса вполне очевидна присущая творчеству Соловьева нравственная доминанта. В основе его теории лежат общезначимые ценности, прежде всего «голос совести», которым он призывал народы руководствоваться в «разрешении великих жизненных вопросов» [4, с. 623], а также ненасилие, терпение, терпеливость, «любовь благоволения» [3, с. 299].
Под любовью благоволения, которую он также называл любовью одобрения, философ имел в виду, разумеется, христианское понимание этого чувства. Настоятельную необходимость такой любви он трактовал, ссылаясь как на единство и нераздельность истинного блага, так и на требование высшего, безусловного и всеобъемлющего нравственного идеала любить всех, как самих себя.
Основываясь на этом утверждении, мыслитель констатировал, что люди не могут существовать, не принадлежа к какой-либо народности, и связывал любовь благоволения с пониманием и одобрением положительных черт других народов, которые позволяют людям узнавать и ценить их, что служит причиной того, что они «начинают… нравиться». В итоге Соловьев делал вывод, что «мы должны любить все народности, как свою собственную» [3, с. 299–300].
Раскрывая психологическую неодинаковость любви одобрения, которую человек испытывает к собственному и к другим народам, он отмечал первостепенность первой: «За собою, как и за своим народом, остается неизменное первенство…» [3, с. 300].
Призыв мыслителя к единству, любви, добру, сопереживанию, жалости отмечают современные авторы [10, с. 520]. М. Б. Хомяков указывает на фундаментальность принципа всеобщей толерантности в творчестве Соловьева [11, с. 184]. В. Н. Липский, исследуя феномены терпения и терпимости, подчеркивает, что основой объединения народов на пути осуществления идеала всечеловечества выступала для него нацеленность на духовное созидание [12, с. 313]. При этом, как отмечалось, никакому народу он не отдавал предпочтения.
Соловьеву были присущи интерес к современной ему реальности, отзывчивость на происходящие события, а главной особенностью его личности являлась борьба с негативными явлениями [13, с. 675], включая космополитизм, названный им полным небрежением своей национальностью и поэтому ненормальным и неестественным, а также национализм, которому уделил особенно много внимания, подчеркивая губительность его крайностей [4, с. 620].
В отличие от патриотизма, естественного человеческого качества, национализм есть «рискованное преследование низменных интересов», выражение национального эгоизма, «эпидемическое безумие», и философ призывал власти отказаться от преследования иноверцев, ссылаясь на свойственные русскому народу братолюбие, религиозную толерантность, а также упомянутое выше отсутствие претензий на какую-либо исключительность [2, с. 605, 603, 599; 4, с. 620; 14, с. 662].
Соловьев горячо порицал бессмысленность вражды между народами, называя ее «зоологическим фактом», вновь и вновь призывая современников как представителей своих народов к согласию [3, 298; с. 300], указывая в качестве ориентира «высший образец правды и любви» [4, с. 619]. Преодолеть проявления национального эгоизма может, по мнению Соловьева, нравственная воля, и в рассуждениях о них также ярко проявляется нравственная доминанта.
Слова философа, по воспоминаниям современников, не расходились с его делами: с его демократическим стилем поведения и общения, широтой и щедростью личности, отсутствием в нем какой-либо избирательности, обусловленной статусом человека, бесконечным разнообразием окружавших его людей, представителей религиозных и светских кругов, верхов и низов общества и т. д. Как вспоминал В. Д. Кузьмин-Караваев, Соловьев одинаково, с любовью относился ко всем [15, с. 201–202].
В. Л. Величко описал случайную встречу с ксендзами, когда только имя Соловьева на памятной вещи расположило собеседников к нему, а один из них поведал о мечте увидеть этого великого праведника, а также то, что о кончине философа горевали люди разных конфессий. Назвав философа светочем, озаряющим путь сближения и взаимного понимания людей, этот автор отнес его к тем, кто создает «теплые течения» благоденствия и мира [16, с. 293–294].
Таким образом, работы В. С. Соловьева по национальному вопросу выражают не только позицию истинного патриота, активного гражданина, незаурядной личности и являются откликом на события его времени, но и содержат немало плодотворных идей, получивших развитие в мировой философии ХХ и ХХI вв., в том числе о целостности мира, синтезе культур, ценности национального фактора, опасности национализма, необходимости равноправного диалога народов и культур, призыв к совместному поиску его участниками взаимопонимания и путей сотрудничества.
Список литературы Разработка национального вопроса в творчестве В. С. Соловьева
- Зеньковский В. В. История русской философии: в 2 томах. Ростов-на-Дону: Феникс, 1999. 544 с. Текст: непосредственный.
- Соловьев В. С. Русская идея // Избранное / составитель, вступительная статья и комментарий С. Б. Роцинского. Москва: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2010. С. 586–613. Текст: непосредственный.
- Соловьев В. С. Национальный вопрос с нравственной точки зрения // Избранное / составитель, вступительная статья и комментарий С. Б. Роцинского. Москва: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2010. С. 277–300. Текст: непосредственный.
- Соловьев В. С. Нравственность и политика. Исторические обязанности России // Избранное / составитель, вступительная статья и комментарий С. Б. Роцинского. Москва: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2010. С. 614–629. Текст: непосредственный.
- Балуев Б. П. Споры о судьбах России: Н. Я. Данилевский и его книга «Россия и Европа». Москва: Эдиториал УРСС, 1999. 280 с. Текст: непосредственный.
- Столярова Т. Ф., Пантин В. И. Воспламененная душа. Вольные размышления о Владимире Соловьеве. Москва: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2000. 320 с. Текст: непосредственный.
- Бойков В. Ф. Соловьиная песнь русской философии // Вл. С. Соловьев: pro et contra / составитель, вступительная статья и примечание В. Ф. Бойкова. Санкт-Петербург: РХГИ, 2000. С. 7–40. Текст: непосредственный.
- Соловьев В. С. О народности и народных делах России // Избранное / составитель, вступительная статья и комментарии С. Б. Роцинского. Москва: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2010. С. 630–644. Текст: непосредственный.
- Аринин А. Н., Михеев В. М. Прошлое. Настоящее. Будущее (Историко- философская мысль России ХIХ‒ХХ вв.) / научный редактор Г. Д. Чесноков. Москва: Изд-во РАГС, 1995. 208 с. Текст: непосредственный.
- Гайденко П. П. Соловьев В. С. // Русская философия: энциклопедия / под общей редакцией М. А. Маслина; составители П. П. Апрышко, А. П. Поляков. Москва: Алгоритм, 2007. С. 516–521. Текст: непосредственный.
- Хомяков М. Б. Толерантность в христианской философии // Философия и общество. 1999. № 2. С. 160–189. Текст: непосредственный.
- Липский В. Н. Феномен терпения в истории общественной мысли России // Толерантность в культуре и процесс глобализации / Институт философии РАН, Академия гуманитарных исследований. Москва: Гуманитарий, 2010. С. 296–324. Текст: непосредственный.
- Лосев А. Ф. Владимир Соловьев и его время / послесловие А. Тахо-Годи. Москва: Прогресс, 1990. 720 с. Текст: непосредственный.
- Соловьев В. С. Что требуется от русской партии // Избранное / составитель, вступительная статья и комментарий С. Б. Роцинского. Москва: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2010. С. 662–668. Текст: непосредственный.
- Кузьмин-Караваев В. Д. Из воспоминаний о Владимире Сергеевиче Соловьеве // Вл. С. Соловьев: pro et contra / составитель, вступительная статья и примечания В. Ф. Бойкова. Санкт-Петербург: Изд-во РХГИ, 2000. С. 196–206. Текст: непосредственный.
- Величко В. Л. Владимир Соловьев: жизнь и творения // Вл. С. Соловьев: pro et con- tra / составитель, вступительная статья и примечания В. Ф. Бойкова. Санкт-Петербург: РХГИ, 2000. С. 233–294. Текст: непосредственный.