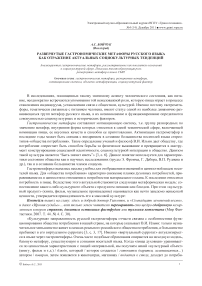Развернутые гастрономические метафоры русского языка как отражение актуальных социокультурных тенденций
Автор: Бойчук Александра Сергеевна
Журнал: Грани познания @grani-vspu
Рубрика: Выразительные средства в дискурсах разных типов
Статья в выпуске: 4 (14), 2011 года.
Бесплатный доступ
Анализируются гастрономические метафоры, рассматриваемые как показатель изменений в социокультурной сфере. Показана текстообразующая роль развернутых метафор в языке СМИ.
Гастрономическая метафора, развернутая метафора, мотивационная система, объекты метафоризации, социокультурный фактор
Короткий адрес: https://sciup.org/14821684
IDR: 14821684
Текст научной статьи Развернутые гастрономические метафоры русского языка как отражение актуальных социокультурных тенденций
В исследованиях, посвященных такому значимому аспекту человеческого состояния, как питание, неоднократно встречаются упоминания той немаловажной роли, которую пища играет в процессе становления индивидуума, установлении связи с обществом, культурой. Именно поэтому гастрометафоры, тематически связанные с питанием человека, имеют статус одной из наиболее динамично развивающихся групп метафор русского языка, а их возникновение и функционирование определяются совокупностью социокультурных и исторических факторов.
Гастрономические метафоры составляют мотивационную систему, т.е. группу разнородных по значению метафор, внутренняя форма которых относится к одной тематической сфере, включающей номинации пищи, ее вкусовых качеств и способов ее приготовления. Активизация гастрометафор в последние годы может быть связана с внедрением в сознание большинства носителей языка стереотипов «общества потребления». Такое определение ученый и философ В.И. Ильин дает обществу, где потребление «перестает быть способом борьбы за физическое выживание и превращается в инструмент конструирования социальной идентичности, социокультурной интеграции в общество. Девизом такой культуры является “Быть значит иметь”» [3, с. 6]. Данное понятие используется для характеристики состояния общества как в научных исследованиях (труды Э. Фромма, Г. Дебора, В.П. Руднева и др.), так и в сознании большинства членов социума.
Гастрометафоры оказались весьма удобны для отображения изменений в ценностной шкале носителей языка. Для «общества потребления» характерно снижение планки духовных потребностей, приравнивание их в ценностном отношении к потребностям материального плана. К последним относится потребность в пище. Вследствие этого актуальной становится следующая метафорическая модель: сопоставление какого-либо культурного объекта с продуктом питания или блюдом. При этом «культурный продукт» (книга, фильм, музыкальное произведение) оценивается как нечто заведомо невысокой ценности, утверждается принадлежность его к массовой культуре:
Коктейль вышел на славу: здесь и добрый доктор Гильотен, и «Семнадцать мгновений весны», и даже «Ирония судьбы»… вот только зачем читателю переваривать сию щедро сдобренную казарменным юмором стряпню, давиться остывшим фастфудом или тухлыми котлетами (Мир Фантастики. 2007. Т. 44. № 4. C. 30).
«Культурная» направленность русской гастрометафоры отчасти связана с особенностями функционирования общества потребления в нашей стране, на которые указывает В.И. Ильин: только незначительное меньшинство живет в оазисах реального российского общества потребления, а большинство пребывает в его виртуальном суррогате [3, с. 3, 17]. Именно «виртуальный суррогат» актуализируется в языке через гастрометафоры. Очень часто подобные образования опираются на исходную модель, базовую метафору, существующую в сознании носителей языка. Когда «пища духовная» уравнивается по ценностным характеристикам с пищей материальной, мы получаем некий «культурный объект» (книгу, фильм и т.д.) / блюдо, который / которое создается / готовится (варится, замешивается…) автором / поваром, затем появляется в кинотеатрах, магазинах / подается к столу, доходит до потреби- теля / съедается, после чего оценивается как качественный (-ое), интересный (-ое), полезный (-ое) / вкусный (-ое), съедобный (-ое) или нет:
Начинаем готовить. Берем мегаполис Москва, добавляем «навов», «людов», «чудов» и конечно же «челов» + щепотку интриги, не забываем также про «двигатель жизни» любовь, ах да не забудем добавить немного улыбки в лице «красных шапок», и что же у нас получилось? спросите Вы.... Ответ очевиден: блюдо под названием «Тайный город». P.S. Кушайте на здоровье, ой, конечно же, приятного Вам чтения! .
Гастрономические метафоры тяготеют, таким образом, к объединению в развернутые поликомпо-нентные конструкции, включающие до нескольких десятков элементов. Значительный процент таких конструкций строится по единой модели с опорой на одну из жанровых разновидностей кулинарных текстов (это может быть рецепт из поваренной книги или же меню ). В случае, если текст имитирует рецепт, для большинства метафор мотивационная сфера, из которой осуществляется перенос, будет содержать номинации процесса приготовления пищи .
Приготовление – сложный процесс, включающий ряд действий и операций, направленных на изменение вкусовых качеств пищи, ее органолептических свойств. Конечной его целью является создание нового блюда из набора продуктов и ингредиентов. Данный процесс всегда протекает с активным участием человека. Текст, описывающий процесс «приготовления» какого-либо «блюда» из сферы масс-медийной культуры, строится по образцу, в качестве которого берется кулинарный рецепт : «Текст кулинарного рецепта определяется как произведение, имеющее определенную целенаправленность и прагматическую установку, зафиксированное в виде письменного документа, оформленное в соответствии с типом этого документа. Кулинарный рецепт представляет собой письменный, монологический, подготовленный, лапидарный, текст, хранящий информацию “накопительного” характера, рассчитанную на длительное использование» [3, с. 160].
Не является принципиально значимым факт упоминания в тексте самой лексемы рецепт . Она может встретиться в начальной фразе в сочетании с указанием на тот предмет или явление, процесс «приготовления» которого рассмотрен ниже. Это своего рода аналог заголовка в реальном рецепте. Иными словами, задается объект переноса. Примечательно, что далее по тексту название «блюда», как правило, не упоминается, как и в настоящем рецепте. Очень часто в заголовке или в первом предложении текста можно обнаружить такую конструкцию: Рецепт / способ приготовления блюда под названием… (далее следует соответствующее имя собственное).
Рецепт обязательно содержит список необходимых «продуктов» и «ингредиентов», который вводится, как правило, императивом возьмите. Затем следует поэтапное описание действий с означенными продуктами. Примечательно, что в реальном рецепте изменение последовательности действий или замена одного действия другим чреваты отрицательными последствиями для блюда: нельзя подменять жарение выпеканием, приправлять блюдо перцем вместо соли. Глаголы с переносным значением в составе многокомпонентной метафоры взаимозаменяемы, лишены смысловой индивидуальности и служат элементами, организующими текст. Примечательны случаи, когда в одном «рецепте» перечисляются действия и приемы, используемые в процессе приготовления различных типов блюд (мясных блюд и сладостей, например), названы несколько основных способов приготовления (варка, жарение, запекание и т.п.). В конце текста обычно следуют рекомендации по способу подачи и специфике потребления блюда. Часто оканчивается такой «рецепт» этикетной формулой – приглашением или пожеланием: Прошу к столу!, Кушать подано!, Приятного аппетита! и т.п.
Чтобы не быть голословными, приведем примеры реальных рецептов и строящихся по их образцу развернутых метафорических конструкций.
Рецепт
Щи богатые (полные)
Берется 750 г говядины, 500–750 г или 1 пол-литровая банка квашеной капусты, 4–5 сухих белых грибов, 0,5 стакана соленых грибов, 1 морковь, 1 крупная картофелина <…>.
-
1. Говядину вместе с луковицей и половиной кореньев (моркови, петрушки, сельдерея) положить в холодную воду и варить 2 ч. Через 1–1,5 ч после начала варки посолить, затем бульон процедить, коренья отбросить.
-
4. К соединенным бульонам и капусте добавить мелко нарезанную луковицу, все остальные коренья, нарезанные соломкой, и пряности (кроме чеснока и укропа), посолить и варить 20 мин. Затем снять с огня, заправить укропом и чесноком и дать настояться в течение примерно 15 мин, закутав чем-нибудь теплым. Перед подачей на стол заправить крупно нарезанными солеными грибами и сметаной прямо в тарелках [5, с. 299].
2–3. <…>
Метафора-рецепт
Поваренная книга «черного пиара»
…Перво-наперво возьмите биографию человека, которого вам заказали. Распотрошите ее, достаньте внутренности . Выберите по желанию какой-то пункт из его жизни…
Поставьте блюдо на медленный огонь и варите, периодически помешивая. Не забудьте бросить в котел щепотку цифр – например, данные о масштабах производства наркотиков в Афганистане <…>.
…Очень важно при приготовлении гарнира не переусердствовать в деталях. Не надо концентрироваться на мелочах (конкретных примерах, убийствах, уголовных делах). Гарнир съедается незаметно, и ваши старания попросту никто не оценит. Достаточно лишь, чтобы он имел привлекательный, аппетитный вид и был тщательно поджарен (публика любит «жареное» ). Неплохо также использовать при сервировке лапшу.
Вот, собственно, и все. Ваше блюдо готово. Не забудьте украсить его свежей «зеленью» (без «зелени» журналисты ничего не напечатают) – и вперед: можете подавать к столу <…>.
Приятного всем аппетита! (Московский комсомолец. 1999. 27 нояб.).
Какие же объекты могут быть рассмотрены подобным образом? Исходя из отобранного нами материала, следует сказать, что это прежде всего продукты и явления культуры (выражение тенденции видеть в современной массовой культуре некое блюдо, продукт потребления). Тогда естественно, что процесс «приготовления» данного «блюда» – создания фильма, написания книги – сопоставляется со стадиями кулинарного процесса. Какое именно действие упомянуто, здесь не так важно:
Каков рецепт качественного фантастического блокбастера? Взять дорогие спецэффекты, взрывы и разрушения, приправить их масштабностью, добавить запоминающихся главных героев и посыпать блюдо отличным юмором. Именно этой рецептурой и воспользовался Бэй, доведя экшен до умопомрачительного размаха и сделав основными персонажами огромных инопланетных роботов (Мир Фантастики. 2007. Т. 48. № 8. С. 70).
Как основания переноса в поликомпонентных гастрометафорах могут использоваться номинации презентации пищи к употреблению . Они включают указание на тип стола (холодный, закусочный, шведский), порядок подачи блюд на стол (аперитив, первое, второе, десерт и т.д.), способ сервировки и т.д.
С точки зрения топонимических характеристик данные метафоры ориентируют адресата на то, что местом действия является ресторан или любое другое заведение общественного питания. Это связано с тем, что в домашнем обиходе сегодня не принято прибегать к сложным действиям по сервировке; большая редкость, когда прием пищи включает смену нескольких блюд.
Опорный кулинарный текст, по образцу которого строится высказывание, представляющее собой развернутую метафору, – это меню . Данное слово имеет два основных значения: 1) перечень блюд каждого конкретного завтрака, обеда, ужина, меняющийся ежедневно и составляемый на день, неделю, месяц и даже на год, в зависимости от вкусов и возможностей составителя; 2) общий список блюд, приготовляемых стабильно в данном ресторане или кафе, остающийся длительное время неизменным для данного заведения, а также непременно отличающийся от меню других заведений [5, с. 831–832].
Таким образом, если в тексте описывается конкретное мероприятие (концерт, презентация, выставка и т.п.), используется первое значение слова. Если же некая организация, компания, общественная структура сравниваются с рестораном, то в «меню» перечисляются результаты их деятельности.
Основным субъектом, осуществляющим действие, является в данном случае официант или метрдотель. Он выступает в роли посредника между создателем – «поваром» – и потребителем – «едоком». К примеру, если рассматривать некий фильм как ресторанное блюдо, то режиссер будет оценен как повар, зритель как едок, а в роли официанта выступает киностудия или компания-прокатчик. В случае, если речь идет о книге, роль официанта достается издательству. Обычно подчеркивается коммерческая заинтересованность «посредника», и его роль оценивается негативно.
В современном мире одной из наибольших ценностей выступает информация. Люди, которые доносят ее до потребителя, метафорически также зачастую оцениваются как официанты. В этой роли могут выступать журналисты, имиджмейкеры, политтехнологи, а также непрофессиональные «распространители» информации (например, пользователи Интернета, разместившие там отзыв на какое-либо произведение). В данном случае обычно имеют место самоидентификация и самоназывание субъекта, поэтому крайне редко встречаются в тексте номинативные единицы с указанием профессии. Текст обычно строится от первого лица, субъект входит в роль «официанта» и предлагает некое «блюдо» «посетителю». В этом случае можно говорить не о простом перечислении блюд, которое излишне формализовано и сухо, но об их устной презентации, рекомендациях «клиенту» от лица «официанта». В текст в подобных случаях могут включаться единицы, отражающие субъективное отношение к предмету, а также этикетные формулы, сопутствующие процессу подачи блюд ( Кушать подано!, Прошу к столу! и т.д.), пожелания приятного аппетита:
В общем, готовить этот номер было неимоверно сложно и в то же время безумно приятно. В качестве легкого аперитива мы выбрали для вас самые вкусные обзоры на любимые аниме и мангу. На закуску продегустируйте статью Aldagmora про женские жанры и рассказ Стефана про гейш. Основное блюдо будет поистине пиршеством гурманов – интервью с леди фансаба, фандаба, амв и косплея. Наконец, десерт в виде деликатесного музыкального сборника от наших девушек. Мы не забыли и про пикантные соусы из всевозможных опросов. Надеюсь, дорогой читатель или дорогая читательница, ты найдешь в меню «ARRU-Style Lady» что-то себе по вкусу. Итадакимас (ARRU-Style. 2009. № 2. С. 3).
Гастрометафора может опираться также на такой публицистический поджанр светской хроники, как описание приемов, званых обедов. Сегодня он практически не встречается, примеры подобных текстов, где подробно описывался порядок подачи всевозможных блюд, можно найти в произведениях классиков русской литературы (см., например, газетные обзоры в «Повести о том, как один мужик двух генералов накормил» М.Е. Салтыкова-Щедрина). Ориентация на подобный тип текста позволяет более свободно подавать материал, использовать выразительные средства языка, что практически исключено, если строго выдерживается схема «текст – меню»:
Сие музыкальное действо («Песня года-2009». – А.Б. ) протекало в спорткомплексе «Олимпийский» и напоминало праздничный ужин, на котором двое официантов в лице Леры Кудрявцевой и Сережи Лазарева жонглировали переменами блюд в виде звезд российской эстрады.
Начали с холодных закусок в виде пикантной Жанны Фриске, в меру остренькой «ВИА Гры» и Кристины Орбакайте под майонезом . На горячее подали Филиппа Киркорова в виде антрекота , Николая Баскова в роли запеченной форельки и Диму Билана в качестве жюльена . А также котлетку по-киевски – Таисию Повалий. Роль жареной курочки досталась Ирине Аллегровой, а холодноватое заливное представляла Лайма Вайкуле (Московский комсомолец. 2009. 16–23 дек.). Такие метафоры обычно строятся в соответствии с существующим порядком подачи блюд и включают следующие выражения и морфосинтаксические конструкции: аперитив ; основное блюдо, горячее, холодное, на первое, на второе, на закуску , на сладкое, на десерт (с дополнительным значением ‘последнее и самое лучшее’).
Таким образом, с помощью развернутых метафор последовательно формируется представление о некоем объекте как блюде, подающемся в ресторане. Ощущения от взаимодействия с миром культуры оцениваются «на вкус» в русском языковом социуме именно в связи с осознанием его как общества потребления. В подобном контексте нередко реализуется ироническое отношение к объекту оценки как предмету заведомо невысокой ценности (когда речь идет о продуктах массовой культуры).
При этом для России характерна несколько парадоксальная ситуация. Со стороны производителей «виртуального суррогата» имеют место попытки навязать членам общества определенную систему ценностей, восхваление продуктов массовой культуры, стремление повысить их аксиологический статус. Иначе говоря, предпринимаются попытки искусственно сформировать оценочную модальность. Г.Н. Скляревская описывает подобную ситуацию применительно к реалиям тоталитарного общества, но изложенные ею положения актуальны и на настоящий момент: «При мощном идеологическом воздействии на язык оценочная модальность базировалась не на традиционных и общих представлениях о мире (таких, как добро и зло, свет и тьма, жизнь и смерть и под.), а на знаниях и истинах, навязанных, внушенных и пропагандируемых в обществе» [7, с. 189]. Однако, если судить по гастрометафорам, используемым в настоящее время с целью оценки, сами носители языка эти попытки осознают и не приемлют.
Список литературы Развернутые гастрономические метафоры русского языка как отражение актуальных социокультурных тенденций
- Арутюнова Н.Д. Язык и мир человека. М.: Яз. рус. культуры, 1998.
- Головницкая Н.П., Олянич А.В. Лингвокультурные характеристики немецкоязычного гастрономического дискурса: моногр. Волгоград: ИПК ФГОУ ВПО ВГСХА «Нива», 2008.
- Ильин В.И. Общество потребления: теоретическая модель и российская реальность//Мир России. 2005. Т. XIV. № 2. С. 3 -40.
- Леви-Стросс К. Мифологики. Т. 3. Происхождение застольных обычаев. СПб.: Универ. кн., 2000.
- Похлебкин В.В. Большая энциклопедия кулинарного искусства. Все рецепты В.В. Похлебкина. М.: ЗАО Центрполиграф, 2008.
- Скляревская Г.Н. Метафора в системе языка. СПб., 2004.
- Скляревская Г.Н. Слово в меняющемся мире: русский язык начала XXI столетия: состояние, проблемы, перспективы//Исследования по славянским языкам. Сеул. 2001. № 6. С. 177-202.