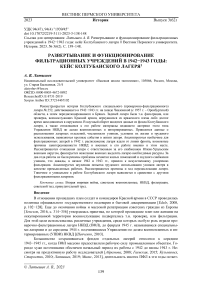Развертывание и функционирование фильтрационных учреждений в 1942-1943 годы: кейс Колтубанского лагеря
Автор: Латышев А.В.
Журнал: Вестник Пермского университета. История @histvestnik
Рубрика: Становление советской социально-политической системы
Статья в выпуске: 3 (62), 2023 года.
Бесплатный доступ
Реконструируется история Колтубанского специального (проверочно-фильтрационного) лагеря № 252, действовавшего в 1942-1943 гг. на западе Чкаловской (с 1957 г. - Оренбургской) области, а затем передислоцированного в Брянск. Задачей лагеря была т.н. фильтрация, или проверка, военнослужащих Красной армии, вернувшихся из вражеского плена либо долгое время находившихся в окружении. В научный оборот вводятся данные из фонда Колтубанского лагеря, а также относящиеся к его работе материалы ведавшего лагерями этого типа Управления НКВД по делам военнопленных и интернированных. Приводятся данные о расположении лагерных отделений, численности узников, условиях их жизни и трудового использования, выявляются крупные события в жизни лагеря. Анализируются необычное для фильтрационных лагерей в 1942 г. расположение лагеря вдали от линии фронта, возможные причины заинтересованности НКВД и военных в его работе именно в этом месте. Рассматриваются отношения лагеря с ответственным за его снабжением Южно-Уральским военным округом, фиксируется нежелание военных выделять лагерю необходимые ресурсы. За два года работы не были решены проблемы нехватки жилых помещений и скудного снабжения узников, что дважды, в начале 1942 и 1943 гг., привело к искусственному ускорению фильтрации. Анализируется неудачная попытка трудового использования узников лагеря в качестве промышленных рабочих. Рассматриваются причины и ход передислокации лагеря. Типичное и уникальное в работе Колтубанского лагеря выявляется в сравнении с другими фильтрационными лагерями.
Вторая мировая война, советские военнопленные, нквд, фильтрация, советский тыл, принудительный труд
Короткий адрес: https://sciup.org/147246486
IDR: 147246486 | УДК: 94(47), | DOI: 10.17072/2219-3111-2023-3-138-148
Текст научной статьи Развертывание и функционирование фильтрационных учреждений в 1942-1943 годы: кейс Колтубанского лагеря
В отношении прошедших плен солдат и командиров Красной армии в СССР проводилась политика официального государственного недоверия и бытовой дискриминации [ Edele , 2008, p. 102-128]. Еще до окончания войны и массовой репатриации советских граждан из Европы [ Земсков , 2016, с. 314-356] утвердилась практика, по которой прошедшие плен или жившие на оккупированной территории военнослужащие подвергались т.н. проверке, или фильтрации. Для этой цели использовались различные учреждения, среди которых особую роль играли проверочно-фильтрационные лагеря НКВД (ПФЛ), до февраля 1945 г. называвшиеся специальными лагерями и до середины 1944 г. подчинявшиеся Управлению по делам военнопленных и интернированных (УПВИ) НКВД [ Шевченко , 2010].
Большинство сохранившихся фондов отдельных лагерей относятся к середине 1943-1945 гг., когда ПФЛ массово предоставляли рабочую силу промышленным объектам. Гораздо хуже источниками обеспечен начальный период их работы с 1942 до весны 1943 г. Несмотря на продуктивную работу исследователей [ Абрамова , 2008; Гаевская , 2015; Кузьминых , Старостин , 2010; Латышев , 2019; Мизис , 2013], деятельность многих ПФЛ в эти годы остает-
ся совершенно не изученной. Один из них – Колтубанский ПФЛ № 252, о котором имеются лишь отдельные упоминания в историографии [Пополняющаяся база…], хотя в Государственном архиве Брянской области сохранился объемный фонд лагеря (ГАБО. Ф. Р-2972. Оп. 1), а отдельные документы доступны в фондах центральных архивов.
Изучение деталей работы Колтубанского ПФЛ, в 1942-1943 гг. находившегося на западе Чкаловской области, важно не только для истории Южного Урала. Данный лагерь явно выделялся на фоне остальных ПФЛ своим удаленным от фронта расположением, отсутствием производственной функции и, несмотря на это, продолжительным временем работы. Анализ условий существования этого лагеря может расширить наше понимание логики управления и развития всей системы фильтрации бывших советских военнопленных. В более широком смысле изучение локальных проблем лагеря, его отношений с местными органами власти и организациями позволяет лучше понимать функционирование государственных институтов и механизмов управления в годы войны на региональном и местном уровнях.
Имея цель проанализировать деятельности Колтубанского ПФЛ № 252 в 1942-1943 гг. как пенитенциарного учреждения, автор планирует решить несколько задач в этой статье. Необходимо выяснить, как шел процесс создания лагеря, какие этапы можно выделить в его работе, каковы были основные проблемы и пути их решений, как обстояло дело со снабжением узников продуктами и вещами, в каких условиях жили люди и как использовался их труд. В процессе следует определить, что в работе Колтубанского лагеря было типично для всех ПФЛ, а что уникально, что нового материалы лагеря дают для понимания фильтрации бывших военнопленных.
десь и далее попавшие в лагерь люди называются узниками. Термины из документов НКВД («спецконтингент», «бывшие военнослужащие») носят дискриминационный характер, не подходят и сочетания вроде «бывшие военнопленные», так как в лагере также содержались военные, не бывшие в плену (окруженцы), и гражданские лица. Наконец, попавшие в лагерь лишались свободы и всякого авторства в своей жизни, официально признаны жертвами политических репрессий [ Наумов , 1996].
Лагерь в 1942 г.: дислокация, условия работы и отношения с военным округом
Формально лагерь № 252 был организован приказом НКВД № 00161 от 28 января 1942 г. По всей видимости, им же создавались еще несколько ПФЛ – полный текст недоступен историкам. Однако наркомату обороны (НКО) было дано задание построить лагерь с 14 до 20 января. УПВИ также информировало начальника лагеря старшего лейтенанта госбезопасности В. Л. Соколова, что к 18 января в лагере уже были оборудованы землянки для приема 5000 человек (ГАБО. Ф. Р-2972. Оп. 1. Д. 15. Л. 27).
На деле УПВИ долгое время даже не могло выяснить почтовый адрес лагеря и, по всей видимости, получало неверную информацию от строивших лагерь военных. Прибывший 30 января в поселок Елшанский Кордон начальник лагеря застал там совсем иную картину. К 13 февраля лагерь представлял собой всего 5 землянок и 187 палаток, вдобавок разбросанных по разным местам. Первый прибывший этап в 2700 человек пришлось размещать на станции Погромное южнее Бузулука и примерно в 55 км от Колтубанки. Это импровизированное лагерное отделение было ликвидировано только в апреле 1942 г. Там также не было подходящих условий для лагерной зоны, и к 13 февраля 5000 человек пришлось направить в саму Колтубан-ку (Там же. Л. 28).
В итоге основная зона лагеря была обустроена в 7-8 км от станции в лесном массиве Бузулукского бора, простиравшегося от зоны во все стороны на 20-40 км. Ближайшим населенным пунктом указывался хутор Елшанский Кордон в 1 км к западу от лагеря, где изначально расположилось его управление, но с конца марта оно переместилось в учебно-опытный лесхоз. Лагерь охранялся 12-й ротой 238-го конвойного полка НКВД, бойцы которой жили в землянках и получали продукты со склада лагеря (Там же. Д. 18. Л. 43-44). Ближайшая тюрьма, где могли бы содержаться арестованные в ходе проверки, находилась в 30 км от лагеря (РГВА. Ф. 1п. Оп. 7а. Д. 1. Л. 10). Оказывать попавшим в лагерь медицинскую помощь в сложных случаях должен был эвакогоспиталь № 3319 в 7 км от лагеря. Также в конце февраля 1942 г. для боль- ных из Погромного задействовали госпиталь № 2984, а раненный в июле комендант особого отдела скончался в эвакогоспитале № 1083 (ГАБО. Ф. Р-2972. Оп. 1. Д. 18. Л. 12; Д. 7. Л. 35).
Создание сети фильтрационных лагерей в зимних условиях, при перегрузке железных дорог и общей нехватке ресурсов, не могло пройти без проблем. Но сложностей Колтубанского лагеря, кажется, не испытывал ни один другой ПФЛ. Лагерь с трудом мог вместить 5000 человек, к двадцатым числам февраля их прибыло 7500, а военные рассчитывали добавить к ним еще 2500. Соколов, прося у УПВИ разрешения объединить две лагерные зоны в одну, прямо сообщал, что не может принимать новые партии проверяемых и в условиях, когда «этапы все идут и идут», будет от них отказываться (РГВА. Ф. 1п. Оп. 7а. Д. 1. Л. 10, 45; Д. 2. Л. 57–58).
К концу февраля в лагере не было колодцев, телефонной связи и автотранспорта для связи с внешним миром. Пищеблоки представляли собой вмазанные в землю котлы под навесом, по оценке начальника лагеря, имеющие вид «самого отвратительного антисанитарного очага, требующие немедленного сноса их и постройки новых» (ГАБО. Ф. Р-2972. Оп. 1. Д. 15. Л. 28). Только к началу марта центр прислал колючую проволоку, а зону закончили ограждать деревянным забором (Там же. Д. 19. Л. 7).
Начальник санитарной службы лагеря позже сообщал в УПВИ, что в феврале, в отсутствии всякого транспорта, для доставки тяжелобольных в госпиталь за 7 км от лагеря врачи ловили проходивший мимо транспорт, а также сами впрягались в сани (последний факт опровергал комиссар лагеря) (Там же. Д. 7. Л. 30-31). Из-за отсутствия морга нельзя было произвести вскрытие первых умерших и установить причину смерти. В дальнейшем в качестве таковых значились сыпной тиф, ангина Людовика, упадок сердечной деятельности, воспаление легких в сочетании с сыпным тифом и др. Санобработка поступающих была плохо организована и в условиях лагеря, очевидно, бесполезна. Вскоре произошла вспышка сыпного тифа, и лагерь закрыли на карантин. К 24 февраля тифом болело 260 человек (РГВА. Ф. 1п. Оп. 7а. Д. 1. Л. 10).
К 30 марта положение в лагере заметно улучшилось. Был вырыт один колодец и еще три оборудовались, землянки и палатки начали отапливаться, для них завезли 25 умывальников. Была запущена хлебопекарня, появилась землянка-лазарет на 50 человек и 8 палаток-изоляторов, рассчитанная на пропуск 100 человек в час баня и дезокамера на 75 человек. Хотя тифом все еще болели 177 человек, новых случаев не было уже неделю (ГАБО. Ф. Р-2972. Оп. 1. Д. 18. Л. 30-31). При этом назвать положение узников лагеря нормальным все еще было нельзя. В каждой палатке помещалось по 14-15 человек, а в землянке по 300-500. Не хватало уборных, не было прачечной (белье стирали в бане), котлов для кипячения воды и бачков с питьевой водой. Отсутствовали самые востребованные медикаменты, не хватало медицинского оборудования. Продовольственное положение лагеря все еще оценивалось его начальником как «катастрофическое» (Там же. Л. 19).
Для понимания причин сложностей в жизни лагеря необходимо проанализировать его местоположение. Хорошо заметно, что, в отличие от других ПФЛ в 1942 г., он находился далеко от линии фронта – источника поступления бывших пленных и окруженцев. Это усложняло коммуникацию с направлявшими эшелоны военными, вело к высокой стоимости перевозки людей, повышало число отставших от эшелона или бежавших в пути. Но удаленность от фронта лишала и ряда менее очевидных преимуществ. Так, УПВИ разослало в ПФЛ отчет Керченского лагеря № 250 за февраль – апрель 1942 г. как пример высокой эффективности. На только недавно освобожденной территории военное командование помогало лагерю в Керчи кадрами, для обустройства активно использовались оставленные немцами трофеи (включая автомашины). Главное же, что большинство проверяемых в лагере пленных и окруженцев были местными жителями, в связи с чем родственники фактически взяли на себя их содержание в период фильтрации (ГАТО. Ф. Р-3444. Оп. 1. Д. 10. Л. 55).
Тыловая Чкаловская область настолько привлекала УПВИ, что в середине января курировавший работу всех ПФЛ заместитель наркома внутренних дел И. А. Серов информировал местное управление НКВД о вероятности появления на ее территории и второго лагеря (ГАБО. Ф. Р-2972. Оп. 1. Д. 17. Л. 2). Возможно, это было связано с эвакуацией в Чкалов аппарата УПВИ, но близость руководства не давала лагерю никаких преимуществ. Начальник лагеря еще в конце февраля 1942 г. не имел ни выписки из приказа о своем назначении, ни служебного удостоверения, что вгоняло его в тоску и не позволяло выдавать доверенности или проводить операции в банке (Там же. Д. 19. Л. 4-4 об.).
Выбор конкретного места в Чкаловской области для открытия лагеря также вызывает вопросы. Наличие вокруг ПФЛ лесного массива обеспечивало его топливом и стройматериалами. Но в остальном расположение было неудачным. Во-первых, от складов снабжавшего его наркомата обороны в Бузулуке и железнодорожной станции лагерь отделяли бездорожье и две реки, чей весенний разлив и общая распутица, по оценкам руководства лагеря, на 1,5-2 месяца отрезали его от внешнего мира и в 1942, и в 1943 гг. (Там же. Д. 15. Л. 24-26).
Во-вторых, близко от лагеря находились населенные пункты, а отдельные постройки располагались в 100 м от зоны. При отсутствии ночного освещения лагеря охрана открывала огонь по скоту. Соколов просил выселить всех жителей Елшанского Кордона: по его наблюдениям, они вместо работы на государство занимаются «личным хозяйством и спекуляцией» (Там же. Д. 7. Л. 26; Д. 15. Л. 24-26). Исполком Бузулукского райсовета 29 июля 1942 г. постановил расселить 30 семей (97 человек) работников опытного лесхоза, из них пять семей были ранее туда «сосланы по линии НКВД», а 19 «прибыли из других районов в период раскулачивания» (Там же. Д. 7. Л. 82-82 об.). Взамен лагерь обязался за свой счет оборудовать здание местной начальной школы, которое также планировал использовать.
Очень похожие проблемы, связанные с неудачной дислокацией, испытывали в 1942 г. многие ПФЛ. Начальник Радинского ПФЛ № 188 в феврале - марте описывал положение дел практически теми же словами, что и Соколов. Выделенный под лагерь участок недалеко от Тамбова был «совершенно не приспособлен»: зона среди леса, удаленность от дорог и баз снабжения, угроза паводков прервать связь с городами. Как итог - отсутствие жилых помещений для узников и охраны и нехватка всего необходимого (ГАТО. Ф. Р-3444. Оп. 1. Д. 9. Л. 6-6 об.; Д. 10. Л. 12-14).
Ситуация Колтубанского ПФЛ усугублялась его отношениями с Южно-Уральским военным округом. Последний был обязан построить лагерь, но, видимо, не считал нужным тратить на него ресурсы. Так, к началу зимы 1942-1943 гг. большая часть служб лагеря и узники все еще располагались в палатках, которые было невозможно нормально отапливать. Военный округ должен был закончить обустройство новой лагерной зоны к середине октября, но руководство лагеря докладывало в УПВИ следующее: «Решение о строительстве лагеря имеется. Кто обязан строить неизвестно. По этому вопросу исписано много бумаги, а еще больше разговоров, но дело не сдвинуто с мертвой точки» (ГАБО. Ф. Р-2972. Оп. 1. Д. 19. Л. 54).
Также военный округ должен был снабжать лагерь всем необходимым. В конце февраля 1942 г. ответственным за это был назначен 14-й запасный артиллерийский полк. В конце марта лагерь посетил с инспекцией командующий военного округа Ф. Н. Ремезов и обещал наладить снабжение на период распутицы (Там же. Д. 18. Л. 27-31). На деле от этой обязанности военные, видимо, также старались уклониться. Формальный подход к проблеме хорошо виден в Постановлении военного совета округа от 16 февраля 1942 г. Сначала в нем подробно расписывается, кто и за какие проблемы лагеря отвечает, но в конце сообщается: «В силу отсутствия наличия в округе материальных и денежных средств, заявки начальника спецлагеря тов. Соколова полностью удовлетворить невозможно» (Там же. Д. 15. Л. 30-31). Так, в открытом в лагере ларьке военторга изначально были только несколько женских ридикюлей и кошельков. Начальник лагеря стал жаловаться на это, подчеркивая, что узники не могут получить положенные им три восьмушки табака и отправляются на его поиски за пределы лагерной зоны. В итоге через месяц в ларьке военторга появился табак, но не остальные товары (Там же. Л. 25).
К началу весны 1942 г. ситуация со снабжением приобрела катастрофический характер: в Колтубанке узники на два дня получали по 500-600 г хлеба, в Погромном были перебои и с ним. На 7500 человек было 5000 постельных принадлежностей, 1800 пар белья и 500 ботинок (Там же). За несколько дней до этого в постановлении военного совета военного округа было зафиксировано совсем другое состояние лагеря: землянки отвечают минимальным требованиям размещения людей, в палатках зимой можно жить при достаточном количестве топлива, продо- вольствием лагерь «в основном обеспечен», имеется запас продуктов на 10-30 дней, а мяса на 2-3 дня. Плохо работал, по мнению военных, начальник лагеря Соколов. Он должен был разобраться с антисанитарией, а также выделять ежедневно по заявкам Управления военного строительства по 2000 человек для строительства помещений лагеря (Там же. Л. 40). В свою очередь, вскоре начальник лагеря сообщил, что строительство законсервировано из-за отсутствия досок, а затем озвучил обвинение, что ответственный за стройку военный переотправляет полученные от военного округа строительные материалы в другое место (Там же. Л. 53-54).
В дальнейшем, когда положение дел в лагере несколько улучшилось, в документах больше не встречается столь острого обмена взаимными претензиями. Одним из факторов нормализации отношений стало использованием начальником лагеря рычага встречного давления на военных. До наведения порядка со снабжением он запретил выводить узников на строительные работы. Затем остроту ситуации снизили наступление теплого времени года и осуществленная по приказу Москвы для компенсации потерь на фронте быстрая разгрузка всех ПФЛ. Освобождение людей крупными партиями из Колтубанки началось с 23 марта 1942 г., к 30 марта в военкоматы передали уже 919 человек, а к 3 апреля планировали освободить еще 2200 (Там же. Д. 18. Л. 32). Фильтрация шла очень быстро, передачу в армию тормозили нехватка обмундирования и, по оценке лагеря, проволочки со стороны военкомата. Численность узников с 6500 человек к началу апреля, по всей видимости, резко сократилась к лету до не более одной тысячи – к 10 октября их было всего 790 (Там же. Л. 11; Д. 7. Л. 131-132).
К маю - июню 1942 г. лагерь принял свое «нормальное» состояние. Узники все еще размещались в «двух- или трехъярусных землянках барачного типа», калорийность их питания явно не отвечала даже официальным нормам. Не было завершено обустройство и работников лагеря. Ведший фильтрацию особый отдел не имел своего помещения и работал в прачечной (Там же. Д. 21. Л. 21). В отсутствии электричества службы лагеря могли работать только до наступления темноты. Для политработы с узниками и личным составом также не было помещения, в связи с чем она проводилась под открытым небом. Осенью 1942 г. доклады стали отменяться из-за плохой погоды, а зимой их планировали вовсе прекратить (Там же. Д. 7. Л. 131).
Нехватку ресурсов и нерадивость военного округа должен был компенсировать труд узников. На территории зоны они рубили деревья и выкорчевывали пни, строили и ремонтировали жилые постройки, работали в сапожной, портняжной, бондарной, шорной и лапотной мастерских. Непосредственно вблизи лагеря узники были заняты на лесоповале. На удалении от зоны они ремонтировали жилье работников лагеря, строили склады и овощехранилище (Там же. Д. 7. Л. 69-70). Порядка 100-150 человек с мая 1942 г. мелкими группами были заняты в подсобном хозяйстве: лагерю выделили 40 га земли в лесхозе и 30 га в колхозе (Там же. Д. 21. Л. 113).
Летом 1942 г., в условиях немецкого наступления, не было оснований ждать поступления бывших пленных и окруженцев на фильтрацию. Однако вместо закрытия лагеря УПВИ направило в Колтубанку арестованных из других ликвидированных ПФЛ № 248 и 250, а также неких подлежащих проверке «из восточных областей Союза» (Там же. Д. 17. Л. 91, 140; Д. 7. Л. 131-132). Заинтересованность в работе Колтубанского лагеря высказало не только УПВИ, но и Сталинградский фронт. Начальник его Управления тыла в конце сентября заявил представителям УПВИ, что, хотя с переходом в наступление потребуется создать новый лагерь, сейчас Сталинградскому и Донскому фронтам достаточно и Колтубанского (РГВА. Ф. 1п. Оп. 6в. Д. 10. Л. 55, 59). Осенью 1942 г. небольшие партии бывших пленных и окруженцев отправлялись в Колтубанку, например, из Астраханского сборно-пересыльного пункта. Логистика вновь не была очевидна: их маршрут шел не через Каспийское море до Гурьева и далее по железной дороге через Казахскую ССР до Чкалова, а более длинным путем - поездом на север до Красного Кута в Саратовской области (ГАБО. Ф. Р-2972. Оп. 1. Д. 5. Л. 7). Далее, видимо, путь эшелонов шел на восток через Уральск и Чкалов до Колтубанки, либо же по северному пути через Саратов и Куйбышев.
К концу сентября в Колтубанском ПФЛ содержалось около 800 человек, большинство из которых, по мнению УПВИ, должны были быть давно проверены и переданы в военкоматы. Политчасть лагеря оценивала ситуацию критичнее, считая, что осенью 1942 г. в Колтубанку направляли тех, кто в фильтрации не нуждались: осужденные за дезертирство или освободившиеся из тюрем, а также «явные инвалиды, на костылях» (Там же. Д. 7. Л. 112, 131-132). Подчеркивание нетрудоспособности значительной части узников связано с требованием отправить из Колтубанки в октябре 1942 г. 600 человек в занятый добычей угля Сталиногорский ПФЛ № 283. Трудоспособных обнаружилось только 394 человек, и к 19 ноября УПВИ прекратило отправку новых людей (Там же. Д. 17. Л. 172, 193).
Лагерь в 1943 г.: старые проблемы, труд узников и переезд
К началу зимы 1942-1943 гг. большинство ПФЛ было ликвидировано или законсервировано, но лагерь в Колтубанке не попал в их число. Документ с предложениями его закрыть принадлежит начальнику 10-го отдела (контрразведка) Управления особых отделов майору И. И. Горгонову. В двадцатых числах января 1943 г. он сообщал своему начальнику В. С. Абакумову очевидный факт о нахождении лагеря в 1000 км от линии фронта, что «при перегрузке железнодорожного транспорта затрудняет доставку бывших военнослужащих и загружает транспорт». Предлагалось «перевести его ближе к фронту, разместив в районе Моро-зовский-Котельниковский, для обслуживания Юго-Западного и Южного фронтов» (РГВА. Ф. 1п. Оп. 9в. Д. 101. Л. 1а).
Кажется, что подобного плана придерживались и в УПВИ, передвигавшем ближе к фронту или закрывавшем гораздо выгоднее расположенные объекты. Начальник УПВИ 29 января распорядился законсервировать Колтубанский лагерь, максимально ускорив проверку оставшихся 900 человек. Заместитель наркома внутренних дел В. В. Чернышов 9 февраля 1943 г. предлагал Колтубанскому лагерю связаться с Особым отделом Южного фронта и, «для ускорения приема и проверки на месте», организовать фильтрационный лагерь № 231 в Сталинградской области в районе Котельниково (Там же. Л. 7-8).
Однако лагерь № 231 не был создан, а Колтубанский вновь наполнился людьми: к концу февраля в нем проходило проверку 2000 человек (Там же. Оп. 1и. Д. 9. Л. 34), к середине марта – 2500 (ГАБО. Ф. Р-2972. Оп. 1. Д. 21. Л. 22, 29). Начальник лагеря в начале марта сообщал в УПВИ, что этапы идут в лагерь, несмотря на решение о консервации последнего, и размещать людей уже негде (Там же. Л. 24-24 об.). Хотя новый поток проверяемых не сравнится с 10 000 человек в начале 1942 г., но материальная обустроенность лагеря кардинально не улучшилась. Бывших пленных и окруженцев ждали всего три землянки, остальной жилой фонд составляли 40 палаток. Общая вместимость оценивалась в 1500 человек, «максимальная» – в 2200. От холода в палатках спасало только обилие леса, хотя дрова и приходилось расходовать в огромных количествах. Помимо жилья, также не хватало продуктов, а весной вновь ожидалось полное прекращение снабжения из-за распутицы.
Как и в 1942 г., в лагере произошли новые вспышки сыпного тифа, завезенного из сборно-пересыльных пунктов 51 и 57-й армий, из-за чего в январе - апреле лагерь периодически закрывался на карантин. За три первых месяца 1943 г. тифом заболели 95 человек, умерло от разных болезней восемь человек и один покончил с собой. Физическое состояние узников в лагерном отчете оценивали по критерию «упитанности»: у половины она была «хорошая», у 30 % «удовлетворительная», 20 % имели расстройства питания. К труду считались годными 95 % узников, 2 % были признаны инвалидами (Там же. Л. 24-24 об., 52-53 об.).
Похоже, что к концу вспышки тифа в центре было принято решение сохранить лагерь. Заместитель наркома внутренних дел С. Н. Круглов 23 марта 1943 г. приказывал Чкаловскому УНКВД, «не дожидаясь утвержденного плана», к середине лета расширить Колтубанский лагерь с 1000 до 10 000 человек. Реализация встретила ожидаемые сложности: начальник лагеря сообщил, что в Бузулукском районе нет свободных помещений, а для расширения лагеря нужно 3-3,5 млн рублей. Единственный вариант сэкономить – занять помещения 45-й запасной стрелковой бригады, но ходатайство об этом УНКВД было отклонено военным округом (Там же. Л. 58-59). Как и в 1942 г., помимо расширения Колтубанского ПФЛ, НКВД одновременно планировало открыть в Чкаловской области еще один лагерь (Там же. Л. 58). Приказ об организации ПФЛ № 0312 в Орске был издан в конце июля 1943 г., однако по неизвестной причине в начале сентября он был реорганизован в лагерь для военнопленных вражеских армий № 260 (ГАРФ. Ф. Р-9401. Оп. 1. Д. 669. Л. 30-32; Д. 673. Л. 22). Возможно, в НКВД рассчитывали на успех в связи с тем, что с апреля 1943 г. снабжение всех ПФЛ перешло от НКО к управлениям военного снабжения НКВД. Колтубанский ПФЛ после этого прекратил с военным округом «всякие взаимоотношения» (Там же. Л. 46). Однако, как видим, надежды на расширение сети ПФЛ в Чкаловской области не оправдались.
Одновременно предпринимались вынужденные меры по разгрузке переполненного Колту-банского ПФЛ. В марте при лагере был утвержден военный трибунал, разбиравший дела попавших в ходе проверки во внутреннюю тюрьму лагеря, после чего осужденные (в том числе приговоренные к расстрелу) отправлялись в тюрьму Бузулука. Но большинство отправлялись в военкомат после быстрой и, очевидно, поверхностной проверки. В марте 1943 г. в лагерь прибыло 1382 человека, а в военкоматы было передано 713, в апреле прибыло только 340 человек, а убыло в военкоматы уже 933 «бывших военнослужащих» (ГАБО. Ф. Р-2972. Оп. 1. Д. 21. Л. 21, 69).
Другой формой разгрузки весной - летом 1943 г. стала отправка трудоспособных узников из Колтубанки на Алтай в Славгородский ПФЛ № 0301, занятый строительно-монтажными работами на бромном заводе № 376 ГУАС НКВД. По плану, следовало выделить 1250 человек, 500 из них отправили в мае и еще 500 в июне (РГВА. Ф. 1п. Оп. 1и. Д. 3. Л. 1). После этого в июне - июле 1943 г. в лагере содержалось в среднем 320 человек, хотя люди продолжали поступать: в третьем квартале прибыло 126 человек, а 218 убыло в военкоматы (ГАБО. Ф. Р-2972. Оп. 1 Д. 21. Л. 28, 138).
С весны 1943 г. все ПФЛ были ориентированы на предоставление рабочей силы местным предприятиям. Погоня за рентабельностью стала главным смыслом работы, а организация принудительного труда часто становилась приоритетнее фильтрации [ Шевченко , 2010]. Однако выделение рабочей силы Колтубанским лагерем другим организациям носило лишь эпизодический характер. Например, в марте 1943 г. Чкаловский обком ВКП(б) через УПВИ просил выделить 200 человек на 20 дней для неких аварийных работ (Там же. Л. 38). Для постоянного трудового использования, с одной стороны, лагерю не хватало людей. С другой, как докладывало его руководство, в радиусе 32 км от него были только колхозы и совхозы, труд в которых требовал рассредоточения узников. Против этого выступил начальник охранявшей лагерь конвойной части НКВД, отказавшийся сопровождать людей к местам работы (Там же. Л. 88-88 об.).
Подходящий вариант все же был найден. Летом 1943 г. на постоянной основе 100 человек хотели выделить для Колтубанского обозного завода наркомата местной промышленности. Просило об этом Управление военного снабжения НКВД. Завод должен был разместить людей, снабдить их спецодеждой и обеспечить питанием. Однако лагерь потребовал дооборудовать территорию завода для соблюдения режимных ограничений, а директору завода не понравились условия типового договора. В случае других ПФЛ взаимные ультиматумы переходили в обмен уступками, а затем длительную борьбу за точное следование заключенному договору. Но для Колтубанки УПВИ решило, что директор завода отказался от выдвинутых условий и рабочей силы не получит (Там же. Л. 36; РГВА. Ф. 1п. Оп. 9в. Д. 101. Л. 89–95).
В будущем Колтубанского лагеря, кажется, первым начало сомневаться его руководство в конце апреля 1943 г. Когда спустя месяц после приказа Круглова расширять лагерь дело не сдвинулось с мертвой точки, у УПВИ спросили: «Есть ли необходимость производить постройку и ремонт помещений лагеря или нет?» (ГАБО. Ф. Р-2972. Оп. 1. Д. 21. Л. 82). В июне УПВИ дало противоречивый сигнал: распорядилось передавать прошедших проверку в военкоматы без лишних проволочек, но доложить, сколько новых узников может принять лагерь (Там же. Л. 181). Крупных людских поступлений после этого не было, и в июле лагерь вновь сообщил в УПВИ о скором окончании фильтрации оставшихся и неясности дальнейших перспектив (Там же. Д. 22. Л. 23).
В итоге последних узников лагеря, задержанных для работы в подсобном хозяйстве или вызвавших подозрения при фильтрации, только 6 ноября 1943 г., очевидно после окончания сельхозработ, отправили в ПФЛ № 283 в Сталиногорск (Там же. Л. 170 об.). Передислокация управления лагеря в Брянск предписывалась приказом НКВД № 01646 от 19/20 октября 1943 г., официально «в связи с непригодностью помещения для содержания спецконтингента в зимних условиях» (ГАРФ. Ф. Р-9401. Оп. 1. Д. 674. Л. 67). Главными причинами, очевидно, были невозможность трудового использования узников в Колтубанке и крайне неудачное расположение лагеря. Переезд по всем признакам напоминал ликвидацию. Помимо дислокации, в феврале 1944 г. сменился и начальник лагеря, которым стал ранее возглавлявший Подлипкинский ПФЛ № 0303 майор П. Н. Крестьянинов.
Изначально в Брянске людей планировалось использовать для восстановления паровозостроительного завода «Красный Профинтерн» (сегодня – Брянский машиностроительный завод). На это имелось решение НКВД и наркомата тяжелого машиностроения. Заинтересованность в скорейшем открытии лагеря высказали и местные власти, которые готовы были даже предоставить помещения для проходящих фильтрацию [ Новожеев и др., 2016, с. 16-17]. Однако лагерь, который теперь назывался Бежицким № 252, был рассчитан только на 500 узников. По всей видимости, попавшие на фильтрацию занимались только оборудованием самого лагеря. Как указывал Крестьянинов, эти работы должен был выполнить завод, хотя вместо этого последний и взял на себя содержание узников (ГАРФ. Ф. Р-9408. Оп. 1. Д. 42. Л. 2).
На 15 марта 1944 г. в ПФЛ содержался 181 человек, к концу мая было уже 259 узников. Судя по запрету отделения СМЕРШа (в апреле 1943 г. в них были преобразованы особые отделы) выводить конкретных 22 узников на работы, шла и фильтрация (Там же. Л. 2-3). Так продолжалось до конца весны 1944 г., когда ПФЛ приказом НКВД № 00628 от 26 мая был реорганизован в лагерь для военнопленных вражеских армий (ГАРФ. Ф. Р-9401. Оп. 1а. Д. 159. Л. 225). Однако несколько сотен «бывших военнослужащих» содержались в нем вплоть до октября 1944 г. (ГАРФ. Ф. Р-9408. Оп. 1. Д. 53. Л. 2–5).
Заключение
Колтубанский ПФЛ № 252 следует признать одним из наименее благоустроенных мест фильтрации в 1942-1943 гг. Первой причиной стало большое удаление лагеря от линии фронта, второй – отношение Южно-Уральского военного округа к лагерю как к обузе. Как показывают материалы Радинского лагеря, другие ПФЛ могли быть расположены столь же неудачно . Но если их проблемы со временем решались либо вели к закрытию лагеря, то беды Колтубанского ПФЛ приобрели хронический характер. В 1943 г. лагерь прошел тот же цикл, что и в 1942 г.: переполнение, вспышка сыпного тифа, ускорение фильтрации и разгрузка лагеря, долгое содержание небольшого количества людей. Новым явлением была только провалившаяся попытка использования труда узников в промышленности. При этом и в 1942, и в 1943 гг. НКВД планировало расширение лагеря с возможностью открыть в Чкаловской области еще один ПФЛ. Заинтересованы в максимальном наполнении лагеря и его сохранении в 1942 г. были и военные на фронте. За закрытие лагеря выступало Управление особых отделов НКВД, тяжелое впечатление должны были производить и отправляемые в УПВИ доклады из Колтубанки. Решение о передислокации лагеря встало на повестку дня только летом 1943 г. и вызревало до октября. Несмотря на смену места и начальства, в Брянске лагерь довольно долго работал с крайне небольшим количеством узников, а затем закрылся. Остается неясной логика длительного сохранения лагеря в Колтубанке, а затем нерационального использования его аппарата управления в Брянске.
Случай Колтубанского ПФЛ не только иллюстрирует крайнюю нехватку ресурсов в советском тылу, но и показывает слабость планирования и управления со стороны УПВИ и НКВД. Нежелание военного округа тратить ресурсы на лагерь косвенно говорит и об отношении военных к прошедшим через плен и окружение. Хотя условия жизни в ПФЛ из-за пересечения компетенций большого количества структур могли быть крайне низкими, ведомственные конфликты в то же время делали невозможной длительную и придирчивую фильтрацию. Стоит предположить, что последнее не только было выгодно многим бывшим пленным, но и в интересах всей страны поспособствовало быстрейшему пополнению армии обученными солдатами и командирами.
Список литературы Развертывание и функционирование фильтрационных учреждений в 1942-1943 годы: кейс Колтубанского лагеря
- АбрамоваГ.А. Спецконтингент радинского лагеря № 188 НКВД СССР. 1941-1942 гг.: по материалам ГАТО // Советский плен глазами узников Моршанского концлагеря 1940-х гг.: материалы междунар. науч. конф.-выставки. Тамбов: Изд-во Тамбов. гос. ун-та, 2008. С. 58-65.
- Гаевская Ж.Ю. Роль спецконтингента в восстановлении предприятий военно-промышленного комплекса Сталинграда в 1943-1945 гг. // Вестник архивиста. 2015. № 1. С. 46-63.
- Земсков В.Н. Возвращение советских перемещенных лиц в СССР. 1944-1952 гг. М., СПб: ИЦ Инта рос. истории РАН, 2016. 422 с.
- Кузьминых А.Л., Старостин С.И. Спецлагеря для бывших военнослужащих Красной Армии, находившихся в плену и окружении противника // Российская история. 2010. № 3. С. 48-53.
- Латышев А.В. Работа фильтрационных лагерей НКВД в 1942 г.: влияние экономических факторов и ведомственных интересов // Вопросы истории. 2019. № 2. С. 36-48.
- Мизис Ю.А. Тамбовский спецлагерь для «бывших военнослужащих» Красной Армии // Историко-культурное наследие города Тамбова: материалы конф. Тамбов, 2013. С. 113-124.
- Наумов В.П. Судьба военнопленных и депортированных граждан СССР. Материалы комиссии по реабилитации жертв политических репрессий // Новая и новейшая история. 1996. № 2. С. 91-112.
- Новожеев Р.В., Барынкин В.П., Иванчогло И.С. Лагеря для немецких военнопленных на территории Брянской области в 1944-48 годах. Брянск: Изд-во Брянск. гос. аграр. ун-та, 2016. 124 с.
- Пополняющаяся база данных по истории и географии исправительно-трудовых лагерей, действовавших в СССР с 1918 по 1960 год [Электронный ресурс]. URL: https://gulagmap.ru (дата обращения: 26.07.2022).
- Шевченко В.В. Деятельность лагерей специального назначения НКВД СССР в 1941-1946 гг.: дис.... канд. ист. наук. Волгоград, 2010. 223 с.