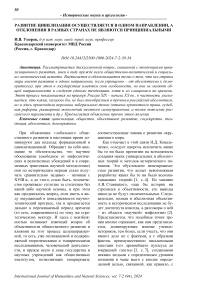Развитие цивилизации осуществляется в одном направлении, а отклонения в разных странах не являются принципиальными
Автор: Упоров И.В.
Журнал: Международный журнал гуманитарных и естественных наук @intjournal
Рубрика: Исторические науки и археология
Статья в выпуске: 7-2 (94), 2024 года.
Бесплатный доступ
Рассматривается дискуссионный вопрос, связанный с тенденциями цивилизационного развития, имея в виду прежде всего общественно-политический и социально-экономический аспекты. Выдвигается и обосновывается тезис о том, что все страны мира имеют развитие в одном направлении, (если упрощенно - от абсолютизма к демократизму), при этом в государствах имеются свои особенности, но они не меняют общей направленности и следуют единым тенденциям, хотя и со смещением по времени. Этот процесс показывается на примере России XIX - начала ХХ вв., в частности, указывается, что каким, казалось бы, не был своеобразным и прочным российский абсолютизм, но и здесь происходили перемены либерального толка (отмена крепостного права, судебная реформа, расширение полномочий местного самоуправления, а позже появление российского парламента и др.). Предлагается объяснение причин этого явления.
Цивилизация, общество, объективное развитие, государство, тенденция, абсолютизм, демократизм
Короткий адрес: https://sciup.org/170206058
IDR: 170206058 | DOI: 10.24412/2500-1000-2024-7-2-30-34
Текст научной статьи Развитие цивилизации осуществляется в одном направлении, а отклонения в разных странах не являются принципиальными
При объяснении глобального общественного развития в настоящее время доминируют два подхода: формационный и цивилизационный. Обращает на себя внимание то обстоятельство, что научное обоснование (свободное от мифологических и религиозных убеждений и в современных трактовках научной методологии) они по историческим меркам стали получать сравнительно недавно – начиная с XVIII в., а до этого, стало быть, человечество проживало столетие за столетием без какой-либо научной основы, и при этом как продвигалось вперед, если иметь в виду ощущаемый в повседневности научнотехнический прогресс, так и продвигается дальше в переживаемый период времени (то есть, современность) по тому же стратегическому вектору. И здесь с неизбежностью возникает извечный вопрос об объективности общественного развития и влиянии на этот процесс целенаправленной, то есть, уже осознаваемой и подкрепляемой теоретическими и эмпирическими исследованиями, человеческой деятельности, и прежде всего в лице государства и научных учреждений как общественных институтов, позволяющих генерировать соответствующие знания о развитии окружающего мира.
Как отмечает в этой связи И.Д. Ковальченко, «следует напрочь исключить какие бы то ни было претензии на возможность создания неких универсальных и абсолютных теорий и методов исторического познания. Это обусловлено неисчерпаемостью развития, что делает невозможным разработку каких бы то ни было всеохватывающих теорий» [1, с. 4]. По мнению А.В. Ставицкого, «как бы историк ни стремился к объективности, его выводы никогда не будут окончательными. Следовательно, полная и абсолютная объективность в историческом исследовании не будет достигнута никогда, а разговоры о ней – из области «научной» мифологии» [2]. Представляется, что подобные точки зрения вполне отражают, как нам представляется, доминирующее мнение ученых-историков, тем более, если учесть, что они имеют дело не с фактами, а с образами фактов, преимущественно письменными текстами («от древнейшего нуклеуса до вчерашней газеты» [3, с. 7], созданными некими людьми с определенным уровнем познания и чаще всего с вполне определенной целью, связанной, как правило, с позицией государственных правителей и религиозных деятелей конкретного исторического времени (а в позднейший период и с их политических оппонентов); не оттого ли, к примеру, нам до сих пор неизвестно происхождение русского государства, имея в виду, в частности, его предпосылки до IХ в.?
Здесь же нельзя не отметить и конъ-юнктурности исторической науки (так, сейчас, на наш взгляд, российская историческая наука переживает болезненный этап переосмысления многих явлений истории России, например, как оценивать декабристов – как преступников при Империи или как героев при СССР и как и тех и других в настоящее время?). Вместе с тем в условиях «приземленного» человеческого бытия, исходя из современных критериев его оценки (в том смысле, что оценку дают современники переживаемого периода), можно, очевидно, говорить, о высокой степени соответствия исторического познания и объективной реальности, а Г.М. Ипполитов и вовсе полагает, что при определенных условиях «объективность исторических исследований достижима» [4, с. 678] – разумеется, речь идет об относительной объективности. Однако даже знание относительной объективности общественного развития, как доносимого учеными-историками до государственных деятелей, принимающих важнейшие решения для страны, так и постигаемого последними самостоятельно в меру своих интеллектуальных сил, не означает, что развитие общества будет следовать познанным объективным историческим законам, причем, в данном случае не имеет значения исходная теория исторического развития (цивилизационная, формационная и т.д.).
Мы полагаем, что данная особенность исторического движения общественных отношений, как представляется, недостаточно изучена. Мы полагаем в этой связи необходимым показать данное явление на примере России XIX – начала ХХ вв. Так, вряд ли кто будет сомневаться в том, что известные буржуазные революции в ряде стран Европы дали отсчет Новому времени с его по-прежнему актуальными демокра- тическими принципами (во всяком случае – пока еще), наиболее наглядно отображенными во французской Декларации прав человека и гражданина 1789 г.: «Люди рождаются и остаются свободными и равными в правах. Общественные различия могут основываться лишь на общей пользе» [5], «Цель всякого политического союза – обеспечение естественных и неотъемлемых прав человека. Таковые – свобода, собственность, безопасность и сопротивление угнетению» [5] и т.д. И сейчас уже ясно, что это был и еще остается вектор всеобщего развития человечества, который разными, в том числе еще неизведанными, путями с неизбежностью, хотя и неравномерно, просачивался через все государственные границы.
Россия в этом процессе не стала исключением, и здесь, как представляется, некоторые абсолютные монархи также чувствовали необходимость перемен – так, Екатерина II вела диалог с прогрессивными европейскими мыслителями, в ее «Наказе» явно слышны нотки европейских веяний, а у «оппозиционеров» императрицы (А.Н. Радищев, Н.И. Новиков) эти мысли были достаточно ясно проявлены, причем, настолько, что «прогрессивная» Екатерина II подвергла их репрессиям. Александр I «дошел» до проекта Уставной грамоты Российской империи. Как вспоминал А. Чарторыйский, император высказывался в том духе, «что ненавидит деспотизм повсюду, во всех его проявлениях, что любит одну свободу, на которую имеют одинаковое право все люди, что он с живым участием следил за французскою революциею, что, осуждая ее ужасные крайности, он желает республике успехов и радуется им ... что желал бы всюду видеть республики и признает эту форму правления единственно сообразною с правами человечества ... что наследственная монархия есть установление несправедливое и нелепое, что верховную власть должна даровать не случайность рождения, а голосование народа, который сумеет избрать наиболее способного к управлению государством» [6, с. 83].
Однако сложившееся у правителей и в целом у политико-аристократической эли- ты России того времени представление о незыблемости абсолютизма и соответствующих сословных привилегий, а также ко многому обязывавшее их общественное положение не позволили в итоге выйти на путь общеевропейского развития. О необходимости сделать это напомнили декабристы в 1825 г. Но их восстание не было поддержано российским обществом, и Николай I, вероятно, увидел в такой позиции тогдашнего российского общества подтверждение правильности выбора самодержавия как основы российского государственного устройства. Для укрепления абсолютизма император издал в 1826 г. новый, более строгий, цензурный устав [7], а через два года этот устав стал еще строже, и цензорам предписывалось, в частности, «следить за неприкосновенностью коренных законов империи» [8, с. 59].
Подобными указами государства задавало желаемое ему, государству в лице соответствующих органов власти, направление развитие развития российского общества. Но что же происходило в реальности? В реальности суровые законы по факту смягчались, ибо объективность общественного развития создаваемые людьми государственные институты (в первую очередь – политическая власть) изменить не могут. Но власть, безусловно, в состоянии замедлить или, напротив, ускорить общий вектор развития, и здесь, конечно, повышается значимость субъективного фактора. В России в то время имело место замедление демократических изменений, точнее, замедление, сопряженное с накоплением протестного потенциала.
При этом, несмотря на жесткие законы, на активность Третьего отделения, некоторые представители государства, те же цензоры, во многих случаях смотрели сквозь пальцы на довольно раскованные и рискованные для авторов сочинения литераторов и общественных деятелей (А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, В.Г. Белинский, А.И. Герцен, П.Я. Чаадаев, дискуссии «славянофилов» и «западников» и др.). И не только цензоры – так, комендант управления на Нерчинских рудниках С.Р. Лепарский довольно лояльно отно- сился к декабристам – формально государственным преступникам, отбывавшим наказание в вверенном ему уголовноисполнительном учреждении. В частности, декабрист Д.И. Завалишин писал о том, что ему и его товарищам под предлогом болезней дозволялось выходить из острога к женам, общаться на природе у реки, и там вместе с декабристами на пикниках бывали лица начальствующего состава [9, с. 266].
Почему же чиновники не страшились общения с преступниками, посягнувшими на государственную власть, то есть, совершившими, по законам того времени, тяжкие преступления? Ответ, мы полагаем, кроется как раз в заданном векторе объективного развития общественных отношений, который показывал, что время (власть) монархов уже заканчивается, право каждого человека становится общественной ценностью, крепостничество считается неприемлемым, и приходит время новых людей, которые свое положение в обществе завоевывают не происхождением, а собственными образованием и трудоспособностью. Тот же С.Р. Лепарский, должность которого по жалованью равнялась должности губернатора, «не хотел выглядеть перед отечественной и зарубежной общественностью в роли палача, желал остаться в истории с добрым именем» [10, с. 128].
Представить такую позицию чиновника еще на рубеже 1800 г. было невозможно, но вот пришло время и таких чиновников, то есть государство как общественный институт не было абсолютно абсолютистским, и в нем всегда были представители прогрессивных взглядов (другой вопрос, что они долго и массово не проявляли себя). И объективность общественного развития свое взяла – вот и крестьянская реформа (1861 г.), вот и судебная реформа (1864 г.), вот и земская реформа (1864 г.) и т.д. Да, это было в европейском духе, хотя и с явным запозданием.
С другой стороны, эти реформы осуществлялись не по осознанию правящей элитой необходимости перемен, а под напором обстоятельств, вынужденно, когда не сделать этого было нельзя, не поне- ся больших потерь для своих интересов. Мы полагаем, что главная причина драматических и трагических исторических поворотов в развитии российского общества заключается именно в этом – неспособно- сти власть имущих улавливать элементы объективного хода исторического развития, что, в свою очередь, вытекает из нежелания поступиться имевшимися привилегиями (капиталами, должностями, льготами и т.д.). Так, распространение революционных настроений во второй половине XIX в. («Земля и воля», «Народная воля» и др.), аплодисменты публики на оправдательный приговор суда присяжных Вере Засулич за признанное ею же покушение на петербургского градоначальника (1878 г.), казалось бы, должны был заставить государство осмыслить ситуацию в обществе – ведь очевидно было, что явно что-то не так, не должны граждане рукоплескать террористке. Однако в итоге российская власть лишь «закрутила гайки», и в результате вместо ускоренного общественного развития, получилось новое его замедление, после чего накопившийся протестный потенциал прорвало в начале ХХ в.
Список литературы Развитие цивилизации осуществляется в одном направлении, а отклонения в разных странах не являются принципиальными
- Ковальченко И.Д. Теоретико-методологические проблемы исторических исследований. Заметки и размышления о новых подходах // Новая и новейшая история. - 1995. - № 1. - С. 4-10. EDN: OTLPIH
- Ставицкий А.В. Объективность в истории: пределы и возможности // Информационно-аналитический портал Таврии и Севастополя. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://русскоедвижение.рф/index.php/articles/42-articles/5614-2012-03-07-10-43-22 (дата обращения: 25.04.2024).
- Поляков Ю.А. Историзмы (мысли и суждения историка). - М.: Ин-т росс. истории РАН, 2001. - 101 с.
- Ипполитов Г.М. Объективность исторических исследований: достижима ли она? Дискуссионные заметки // Известия Самарского научного центра Российской академии наук. - 2006. - № 8. Т. 3. - С. 676-689.
- Декларация прав человека и гражданина (Принята Учредительным собранием 26 августа 1789 г.) // Французская Республика: Конституция и законодательные акты. - М.: Прогресс, 1989. - С. 26-29.
- Русский двор в конце XVIII и начале XIX столетия: из записок князя Адама Чарторыйского, 1795-1805 (переиздание). - М.: РГБ, 2007. - 221 с.
- Цензурный устав от 10.06.1826 г. // Русская журналистика в документах. История надзора / Составитель О.Д. Минаева. - М.: Аспект пресс, 2003. - С. 110-114.
- Полусмак Т.Л. Цензурное законодательство дореволюционной России: дис. … канд. юрид. наук. - Н. Новгород, 2003. - 194 с. EDN: NMICFT
- Записки декабриста Д.И. Завалишина. - СПб.: Тип. М.О. Вольфа, 1906. - 462 с.
- Соболев А.В. Вельможная каторга и ее артельное хозяйство // Вопросы истории. - 2000. - № 2. - С. 127-133. EDN: CHFEXK