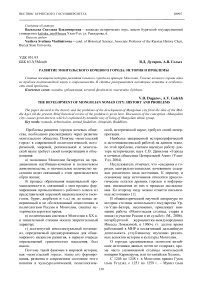Развитие монгольского кочевого города: история и проблемы
Автор: Дугаров Владимир Доржиевич, Голых Анатолий Владимирович
Журнал: Вестник Бурятского государственного университета. Философия @vestnik-bsu
Рубрика: Колонка редактора
Статья в выпуске: 7, 2009 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена истории развития кочевого города на примере Монголии. Генезис кочевого города одна из проблем востоковедной науки в современности. В статье раскрываются некоторые аспекты и особенности этой проблемы.
Номады, урбанизация, кочевой феодализм, чингисиды, буддизм
Короткий адрес: https://sciup.org/148178995
IDR: 148178995 | УДК: 951.93
Текст научной статьи Развитие монгольского кочевого города: история и проблемы
Проблемы развития городов кочевых общества, необходимо рассматривать через развитие монгольского общества. Понятие «монгольский город» в современной политологической, исторической, мировой, региональной и монгольской науке требует своей конкретизации и обоснования:
-
а) экономика Монголии базируется на традиционном пастбищно-кочевом и полукочевом животноводстве, и значительное количество населения ведет связанный с этим производством образ жизни;
-
б) процесс образования национальной промышленности и, связанный с ним процесс формирования промышленного рабочего класса из представителей коренной национальности (монголов, бурят, дюрбетов и т.д.) не до конца завершенный и не обследованный социологами и политологами России и Монголии, охватил исторически короткое время;
-
в) политическая система в Монголии в XX в. в значительной степени носила запретительный характер;
-
г) достигнутый интеллектуальный потенциал, определяемый среднеуровневым для общемирового индексом развития, в первую очередь определяемый грамотностью населения, был высок.
Поэтому такой феномен в мировой истории, как «монгольский город», этапы его формирования, развития и современное состояние этого понятия в культурологической, политологиче- ской, исторической науке, требуют своей интерпретации.
Наиболее завершенной историографической и источниковедческой работой на данном этапе, по этой проблеме, считаем научную работу доктора исторических наук С.В. Данилова «Города в кочевых обществах Центральной Азии» (Улан-Удэ, 2004).
Исследователь отмечает, что «сведения о городах центрально-азиатских кочевников содержат различного вида источники. К первому и основному виду источников относятся археологические остатки древних городов и информация, извлекаемая из них в процессе исследования. Ко второму виду можно отнести письменные источники» [1].
В общеисторической научной литературе по истории столицы монгольского государства Ур-ги-Улан-Батора, несомненно, привлекает внимание работа «Монгольская столица, старая и новая (и участие России в ее судьбе)» (М., 2006). петербургской журналистки-международника Инессы Ломакиной, в 1960-е гг. долгое время работавшей в МНР и посвятившей дальнейшую деятельность углубленному изучению различных аспектов истории и культуры Монголии.
О городах средневековых монголов китайские источники данных почти не содержат, кроме часто упоминаемой столицы монгольской империи Каракорума, или по-китайски Холинь.
С 1246 по 1248 г. в Монголии правил Гуюк (сын Угэдэя), с 1251 по 1259 г. – Мункэ (сын
Тулуя). При нем процветала столица Монгольской империи – г. Каракорум (в настоящее время Хара-Хорин), построенный еще при Чингисхане в 1220 г. на правом берегу реки Орхон. Это был крупный для того времени центр ремесла и торговли. Здесь, в степной столице, сходились торговые пути между Дальним Востоком, Средней Азией и Восточной Европой, сюда стекались товары со всего мира, съезжались послы и купцы из многих стран. Отсюда осуществлялось управление огромной Монгольской империей. До конца царствования Мункэ-хана Каракорум играл большую политическую роль в жизни империи. Однако в 60-е гг. XIV в. Каракорум столичные функции утратил, в связи с перенесением столицы империи ханом Хубилаем в Хан-Балык (Пекин), а к концу XIV в. перестал существовать как стационарное городское поселение.
Хотелось бы отметить, что «с созданием империи Чингис-хана замкнулась цепь международной торговли по сухопутным и морским путям, существовавшая до этого в Евразии в едином комплексе. Впервые все крупные региональные ядра (Европа, исламский мир, Индия, Китай, Золотая Орда) оказались объединенными в первую мир-систему. В степи, подобно фантастическим миражам, возникли гигантские города – центры политической власти, транзитной торговли, многонациональной культуры и идеологии (Каракорум, Сарай-Бату, Сарай-Берке)» [2].
В истории «погибающей» и «разрываемой» на части монгольской империи чингисидов, развитие и прогресс монгольских городов на территории непосредственно Монголии (Внутренней Азии), как географического понятия, исходя из объективных особенностей, были невозможны из-за ряда причин.
Период монгольской истории конца XV – начала XVII вв. был закономерно связан с массовым исходом (бегством) монголов из Китая после падения династии Юань, что привело к увеличению концентрации населения в монгольских степях, а также к ассимиляции халха-ского населения. Этот период в то же время отмечен возвращением монголов в свою привычную кочевую среду.
Включение монгольского народа в состав земледельческого с высокой цивилизационной и городской культурой Китая, не мог не привести к заимствованию в области административногосударственной сферы, особенно в период XVII-XVIII вв., что привело на территории Монголии к формированию административновоенных (Кобдо, Улясутай) и религиозноторговых центров (Их-хурэ).
В конце XVI – начале XVII вв. возобновилось строительство ханских дворцов и резиденций. Некоторые из них были так прекрасны, что заслужили упоминания в летописях. В 1586 г. Абатай-ханом был основан первый в Халхе буддийский монастырь в Эрдэни-Дзу. Монгольские источники сообщают о прекрасном дворце XVI в. в долине реки Тола, принадлежащем сыну Абатай-хана; о городе Хаар-хул-хааны-балгас на реке Хануй; дворце правителя Хун-тайджи Жестокого в Арахангайском аймаке на правом берегу реки Харбухын-гол; о дворце западномонгольского правителя Алтан-хана в Хубсугуль-ском аймаке и др. [ 3].
До наших дней сохранились развалины бывшей резиденции халхаского князя Цокто-тайджи (1580-1637) – прогрессивного деятеля и просветителя конца XVI-начала XVII вв., на берегу реки Тола. Кроме дворца в этот архитектурный комплекс Цокто-тайджийн Цагаан бай-шин входило шесть или семь храмов [4]. Этот комплекс естественно отличался от передвижных ставок монгольских ханов своей стационарностью и прикреплением к определенному месту.
Следует отметить, что в дацанской монгольской архитектуре представлены элементы китайского (монастырь Амурбаясхаланту, основанный на реке Ивен-гол, притоке Орхона, в 1727-1736 гг., посвященный памяти Дзанабадза-ра), тибетского архитектурного зодчества, характерными чертами которого были простота, величие и монументальность. Если основным материалом для монгольских построек служило дерево, для китайских – кирпич, то для тибетских – камень [5]. Одним из ранних городов средневековой Монголии был Хух-Хото (Синий город) в Южной Монголии (КНР), основанный тумэтским правителем Алтан-ханом в 1500-х гг., как административно-хозяйственный и торговоремесленный центр. Этот город сыграл важную роль в экономических и культурных взаимоотношениях монголов с Китаем и Тибетом, в проникновении ламаизма в Монголию.
В то же время весь Каракорум был построен из дерева и глины и окружен глиняной стеной [6].
Превращение буддийских центров религиозного поклонения в центры ремесла и торговли, а затем в классический средневековый европейский город, в обществе, живущем на стадии полукочевого, кочевого образа хозяйствования, может рассматриваться лишь «гипотетически».
В то же время для строительства храмов и монастырей в XVI-XVII вв. приглашались первоначально иноземные мастера. Позже в XVIII в. монголы уже полностью освоили технику и особенности деревянного и каменного зодчества. В ряде крупных монастырей юношей обучали строительным наукам и правилам, почерпнутым из практической деятельности. Будущие строители обучались по составленным еще V-IV вв. до н.э. древнеиндийскому трактату «Манаса-ра», положениям и рекомендациям из «Ганджу-ра» о правилах возведения культовых и гражданских сооружений.
И здесь мы присоединяемся к мнению Ням-Осорын Цултэма: «большая часть этих сочинений не переведена ни на современный монгольский, ни на русский и европейские языки и остаются совершенно недоступными даже специалистам» [7].
Наиболее значимые средневековые города XVIII в. Монголии Кобдо и Улясутай, возникли в 1718 и 1733 гг., как военные крепости в эпоху маньчжурских войн с западными монголами. К концу XVIII в. эти города стали лишь местом пребывания маньчжурских чиновников, оставаясь форпостами влияния чуждой монголам цивилизации, центрами маньчжурской колонизации, мало связанной с бытом и хозяйственной жизнью коренного населения. Соответственно, назначенные местные власти (всего было три наместничества: Улясутай, Урга, Кобдо) в Монголии располагались в этих военноадминистративных поселениях. Коренные жители монгольской национальности не имели в них политических и хозяйственных прав. Кроме того, в ареале функционирования этих военноадминистративных поселений, отсутствовали крупные буддийские монастыри, что является отдельной темой исследования.
Основываясь на мнении крупнейшего историка Монголии Б. Ширендыба, который, представляя основную форму жилья монголов, писал: «Юрта представляет собой круглое конусообразное жилище, покрытое войлоком. Но это не шалаш, не палатка, это более сложный тип жилья. Каркас юрты складывается из раздвижных решеток – «ханов» и дверной коробки. Каркас кровли состоит из верхнего круга – «тона» и стрел – «уни». Юрта хорошо приспособлена для кочевого образа жизни» [8]. Необходимо отметить, что этот тип жилья не совсем соответствует понятию «стационарное городское поселение».
Исторический процесс развития города (урбанизированной системы) выделяется несколькими временными структурными этапами. Их согласно существующей терминологии, принятой в современной науке, можно назвать процессами урбанистической концентрации. Эта теоретическая установка, связанная с развитием монгольского города в первой половине XX в., наиболее характерна для Улан-Батора, носившего в разное время наименования Их-хурэ, Да-Хурэ, Нийслэл-хурэ, Урга (в русских документах с середины XIX в.), возникшего в долине реки Тола вблизи монастыря Их-хурэ [9].
Основателем монастыря был крупнейший религиозный и политический деятель Монголии средневековья Ундэр-гэгэн Дзанабазар, имевший титул «Богдо», означавший в тот период слияние светской и религиозной власти в Монголии.
Именно этот хан изменил «орхонскую традицию» столиц, разместив основные святыни ламаизма в долине реки Тола и устроив новые для того времени поселения в виде юрты-храма, монастыря Их-хурэ. Вокруг которых возникло вначале небольшое торговое местечко, а впоследствии стационарное поселение, которое, естественно, трудно было назвать в тот период городом европейского типа. Размещение религиозного центра Монголии в удобном в географическом отношении месте (Ургинская долина) способствовало и наличие одного из почитаемых монголами мест: Богдо-Хан-Ула.
В выборе конкретного места для поселения или возведения жилища в монгольской и бурятской традициях большое значение имела символическая информации о той части пространства, на которой предполагалось разместить жилище. По замечанию М.М. Содномпиловой: «В символической классификации частей пространства существуют комплексы отрицательных и нейтральных значений, по которым определяется пригодность (непригодность) для заселения места. Основной операционной системой выступают разнообразные виды гаданий. Неудачный выбор места негативным образом сказывался на дальнейшей жизни семьи, являясь причиной болезней самих хозяев и скота, различных несчастий и даже смерти» [10].
Место, выбранное для города, было обжито с незапамятных времен, что подтверждается находками стоянок первобытных людей у Зайсан-толгоя, наскальных рисунков возле красивейшей пади Их-Тэнгри [11]. Монастырь Их-хурэ, давший начало городу, долгое время кочевал по долине реки Тола (Ургинская котловина) и только в начале XIX в. окончательно утвердился в местности при впадении реки Сэльба в Толу. Одновременно вблизи монастыря начали создаваться городская административная и торговая инфраструктуры.
По образному замечанию исследователя Монголии И. Ломакиной: «Монгольская столи- ца кочевала по степным просторам целое столетие, даже больше. Выяснилось, что ставка монгольского хана стояла в долине Толы задолго до рождения Хархорина (Каракорума)» [12]. Следует признать, что возникнув как религиозный центр, приобретя в дальнейшем административные функции, «город стал местом пребывания монгольского правителя, а затем переведенного из Улиастая маньчжурского правителя (амба-ня)» [13].
В этот период происходят изменения в области материальной культуры, вызванные усиленным строительством буддийских храмов и монастырей, а также развитием градостроительства. В этот период был построен доныне широко известный Дворец Богдо-Гэгэна, основанный в 1893 г., художественное творение народных мастеров – монастырь Чойджин-ламы в Улан-Баторе.
С включеним Монголии в состав цинского Китая в XVII в., вхождением, противоборствующих за территорию Монголии, России и Китая в капиталистическую стадию развития в конце XIX в., начинает изменяться и градостроительный облик столицы, в первую очередь связанный с изменениями в хозяйственной деятельности жителей столичного региона.
Разорившиеся араты, как правило, покидали свои хошуны и пополняли многочисленные ряды хэрмэлов (бродяг), вели полунищенское существование в городах и других поселениях в качестве поденщиков, носильщиков и наемных работников. Оправдавшая себя в истории теория К. Маркса «о первоначальном накоплении капитала», связанная с разорением значительной массы населения (кочевого аратского в Монголии), сыграла свою роль и в рассматриваемой нами стране.
Усилению развития товарно-денежных отношений в Монголии содействовало становление городов, повышение их экономической функции в монгольском обществе в период феодально-теократической монархии. Эти города, начиная с конца XVIII в., постепенно вырастали вокруг крупных монастырей (Урга, Заян-гэгэн курень и др.), позднее – вокруг маньчжурских крепостей (Кобдо, Улясутай), из ставок владетельных монгольских феодалов (Ван-хурэ и др.). По некоторым данным, до начала XX в. можно было насчитать около 20 городов и поселений городского типа. Кроме Урги, Кобдо, Улясутая, Кяхтинского Маймачена отмечается немалое количество оседлых поселений с постоянным населением в 2-3 тыс. человек: Санбэйсин-хурэ, Заяын-хурэ, Чойр и др. По неполным данным, в этот период там проживало более 20% всего монгольского населения [14].
Повышение роли торговли и предпринимательской деятельности монгольского населения, связанной с ростовщичеством, арендой, уртон-ной повинностью, извозным промыслом, различными видами субаренды, приводило к тому, что по данным 1914 г., на ургинском рынке торговали 6946 монголов. Необходимо учитывать и тот фактор, что в торговых операциях кроме торговцев участвовало множество аратских хозяйств, которые нуждались в деньгах для уплаты сохраняющихся феодальных повинностей [15].
Совершенно новым явлением для экономической и социальной жизни Монголии было вовлечение в товарно-денежные отношения монгольских ремесленников, объединенных к этому времени в небольшие (3-5 человек) цеховые артели.
Переходный этап от XIX к XX в. изменил, отметим на современном градостроительном языке, структуру городского механизма, который начинает формироваться как территориальное единство различных элементов; начался процесс формирования многокомпонентной городской среды. Начальный период формирования урбанизированного комплекса характеризуется возникновением территориального единства различных взаимно расположенных и сочленяющихся элементов [16]. Размещение Урги в центре торговых путей, пролегающих через Монголию в Китай, Синьцзянь-Уйгурский район, связь с Восточно-западно-сибирскими городами, а значит с Россией определяли этот город как центр международной торговли, да и монгольского ремесла также. Являясь крупнейшим перевалочным пунктом на Великом чайном пути из Китая в Европу, Урга в полной мере пользовалась получаемыми торговыми таможенными пошлинами.
Во второй половине XIX в. русская торговля в Монголии развивалась динамично. Вовлекая традиционное кочевое хозяйство в орбиту товарно-денежных отношений, она расширяла не только экономические, но и социальнокультурные связи между монголами и жителями приграничных областей Сибири. По официальным данным, торговые обороты русских предпринимателей в Монголии за 1865-1886 гг. возросли в 2,3 раза, причем соотношение экспорта и импорта было примерно одинаковым (экс-порт-49,1%, импорт-50,1%) [17]. Привнося в Монголию элементы «цивилизованной» торговли, русские купцы одновременно «принимали законы степи» (Г.Н. Потанин), которые игнорировались «цивилизованными» западноевропейскими предпринимателями, стремившимися унифицировать особенности традиционного общества, таким же было и стремление китайских купцов торговавших товарами мануфактурного и фабричного английского и американского производства [18].
Характерный облик поселения – города Урги, связанный с профессиональными занятиями, национальным составом и бытовыми аспектами жизнедеятельности населения в конце XIX – начале XX вв., зафиксирован в трудах русских путешественников, этнографов, экономистов: Н.М. Пржевальского (1879), А.М. Позднеева (1880, 1896), А. Баторского (1889), Е.Козловой (1915), И.М. Майского (1919) и других.
К началу XX в. численность населения города колебалась (по разным источникам) от 45 (Позднеев, 1896) до 72 (Имшенецкий, 1915) тысяч человек. И.М. Майский определял количество населения в Урге «круглым счетом» в 100 тысяч человек, причем 65-70% населения составляли китайцы, 25-30% - составляли монголы (2/3 из них ламы) и русские 3%. Складывалась стационарно сконцентрированная масса населения, но ее национальный состав был не типичен для Монголии в целом [19]. Преобладание китайцев скорее свидетельствовало о сохранении у основной массы населения (представителей монгольского этноса) признаков традиционной кочевой цивилизации с элементами религиозномонастырской территориальной стабилизации.
Подводя краткий историографический итог истории образования, развития, функционирования монгольских городов на протяжении длительного по временным рамкам периода истории, считаем необходимым поддержать мнение С.В. Данилова:
-
1) монгольский город, насчитывает тысячелетнюю историю, ведущую отсчет с археологических раскопок Хойт-Ценкер Агуй (Северной прозрачной речки), относящихся к эпохе верхнего палеолита, проведенных академиком А.П. Окладниковым на территории Монголии в 1960х гг. и «имеющих значение не только для Монголии, но он важен и в более широком культурно-историческом плане» [20];
-
2) развитие уникальной кочевнической цивилизации, особенно во времена чингисидов, способствовало формированию особого архитектурного стиля раннесредневекового города, отражающего взаимосвязь земледельческой и кочевнической цивилизаций, объединенных единой политической волей степных ханов и их потомков;
-
3) история монгольского средневекового города, это в значительной степени отражение в архитектурной и строительной структуре и характере этих стационарных поселений китайской и буд-
- дийской традиций, получивших на землях Монголии свое своеобразное отражение в буддийской храмовой архитектуре, скульптуре, живописи, декоративно-прикладном искусстве;
-
4) стационарный монгольский город начала XX в., это переходная структура представляющая собой синтез религиозно-торговой функции поселения со вспомогательными и сопутствующими (административными, столичными, например – Урга) отношениями;
-
5) классическим стационарным урбанизированным поселением второй половины XX в. является Улан-Батор и ряд городов воздвигнутых в ходе строительства социалистической промышленности МНР (Дархан, Эрдэнэт, Сухэ-Батор, Дзабхан и др.);
-
6) историография истории монгольского города не получила специального развития в советской и российской общественной науке и требует специальных исследований и публикаций связанных с переводом узкоспециализированных работ монгольских авторов, необходима координация специалистов различных профессий в освещении и подготовке специальных работ по этой проблеме;
-
7) изучение всех предпосылок возникновения городов в Центральной Азии предполагает создание концептуальных решений вопроса появления в кочевых обществах Центральной Азии городской культуры (Данилов С.В. Города в кочевых обществах. С.12).