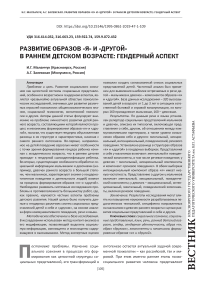Развитие образов "я" и "другой" в раннем детском возрасте: гендерный аспект
Автор: Маланчук Ирина Григорьевна, Залевская Анна Геннадьевна
Журнал: Вестник Красноярского государственного педагогического университета им. В.П. Астафьева @vestnik-kspu
Рубрика: Психологические науки. Психология личности
Статья в выпуске: 1 (47), 2019 года.
Бесплатный доступ
Проблема и цель. Развитие социального сознания как целостной системы социальных представлений, особенно в возрастном и гендерном аспектах, является чрезвычайно актуальной областью психологических исследований, значимых для развития различных отраслей психологии: общепсихологического знания, социальной психологии, когнитивной психологии и других. Авторы данной статьи фокусируют внимание на проблеме личностного развития детей раннего возраста, составляющими которой являются процесс и механизмы формирования образов «я» и «другой», полагая, что существует гендерно обусловленная разница в их структуре и характеристиках, начиная с самого раннего онтогенеза. Во-первых, направленное на детей поведение взрослых имеет особенности с точки зрения формирования гендера ребенка начиная с младенческого возраста, что в раннем детстве приводит к гендерной самоидентификации ребенка. Во-вторых, существующие особенности обработки социальной информации мальчиками и девочками (например, девочек раннего возраста в большей степени, чем мальчиков, характеризуют знания о гендерно-типичном поведении и деятельности людей) влияют на процессы формирования образов «я» и «другой». Необходимо развивать системные исследования проблемы в противоположность большинству работ, где, как правило, изучаются частные аспекты проблемы детского развития. Нашей целью было получить данные о гендерных различиях систем социальных представлений детей о себе и «другом», на основе анализа форм коммуникативного поведения, речи и языка. Методическое обеспечение и база исследования. В исследовании использован метод контент-анализа в его модификации, позволяющей выделить социальную информацию, имплицитно и эксплицитно содержащуюся в высказывании. Метод экспертных оценок позволил создать согласованный список социальных представлений детей. Частотный анализ был применен для выявления наиболее встречаемых в речи детей - мальчиков и девочек - компонентов образов «я» и «другой». База данных исследования - 320 высказываний детей в возрасте от 1 до 3 лет в ситуациях естественной бытовой и игровой коммуникации, из которых 160 принадлежит мальчикам, 160 - девочкам. Результаты. По данным речи и языка установлен репертуар социальных представлений мальчиков и девочек, описана их типология, включающая представления о себе, другом, об отношениях между коммуникативными партнерами, а также уровни осмысления образов себя и другого: ментальный, эмоциональный, интенциональный, поведенческий, речевого поведения. Установлена разница в структурах образов «я» и «другой» в гендерных выборках. Представления о себе у мальчиков включают: ментальный и поведенческий компоненты, в том числе речевое поведение; у девочек - ментальный, эмоциональный компоненты и компонент «речевое поведение». В обеих выборках интенциональный компонент образа «я» имеет низкую частотность. Представление о другом у мальчиков включает ментальный, эмоциональный, поведенческий компоненты; у девочек - эмоциональный, интенциональный, ментальный, поведенческий компоненты, включая речевое поведение. Заключение. Результаты исследования могут влиять на повышение наукоемкости разрабатываемых педагогических технологий, специфично направленных на мальчиков и девочек раннего возраста с целью развития социальных представлений о себе и других.
Социальное сознание, социальные представления, язык, речь, ранний детский возраст, гендер, гендерная идентичность, образ "я", образ "другого", компоненты и механизмы формирования образов "я" и "другой"
Короткий адрес: https://sciup.org/144161750
IDR: 144161750 | УДК: 316.614.032, | DOI: 10.25146/1995-0861-2019-47-1-109
Текст научной статьи Развитие образов "я" и "другой" в раннем детском возрасте: гендерный аспект
DOI:
онтогенезе остается актуальной задачей современной психологии - как российской, так и мировой. При этом именно ранние этапы психосоциального развития человека представляют
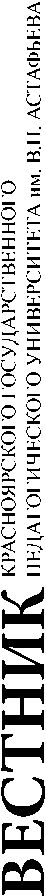
особый интерес в силу их неочевидной сложности. Принципиально новые возможности открываются в раннем детском возрасте, когда дети не только демонстрируют те или иные формы поведения и речи, доступные наблюдению и анализу, но и активно используют язык, что свидетельствует об изменении младенческого типа сознания и складывании многоуровневой системы языкового сознания.
В предыдущей нашей статье [Маланчук, За-левская, 2018] мы определили принципы и подходы к изучению социального сознания, в том числе социального сознания детей раннего возраста. Требуется развить их понимание.
Под социальным сознанием понимаем целостную систему социальных представлений, имеющих структурные связи, иерархию, глубинный и актуальный для возраста уровни, - систему, репрезентированную в формах речи, языка, социальной и других форм поведения человека [Маланчук, 2014], что вполне актуально для исследуемого возрастного периода и доказательно описано в работе А.Г. Денисовой, 2015.
Исследования социального сознания изначально требуется вести в гендерном аспекте, поскольку родительское поведение, а также поведение других взрослых (старшего поколения семьи, сиблингов, других лиц), направленное на мальчиков и девочек, имеет выраженные особенности с точки зрения формирования гендера ребенка начиная с младенческого возраста [Пе-регудина. 2008; Репина, 2004; Bigler, 1995; Bigler, Hayes, Hamilton, 2013; Langlois, Downs, 1980; Lytton, Romney, 1991; McHale, Huston, 1984; Plant, Hide et al., 2006; Roger, Rinaldi, Howe, 2012; Schoppe-Sullivan, Diener et al., 2006], в том числе при различных ограничениях в процессе развития ребенка, как, например, особенности его здоровья [Дусказиева, 2015].
Выявлено значение гендерных факторов и особенностей гендерного развития в период младенчества - раннего детства для психического и психосоциального развития в динамике всего детства [Авдеева, 2003; Каган, 2000; Семенова, 2002; Bornstein, Giusti et al., 2005; Scola, Holvoet et al., 2015; Kawai, Takagai et al.,
2017; LeBarton, Iverson, 2016; Lowe, Coulombe et al., 2016; Qu, Leerkes, King, 2016; Valla, Wentzel-Larsen et al., 2016; Miller, Nolla et al., 2018], что предполагаем и в отношении социального сознания, которое является результирующим процессом обработки социальной информации ребенком.
Теория гендерной идентичности системно представлена в работе [Gianesini, 2016]. Ее автор определяет гендерную идентичность как многомерный конструкт и «фундаментальный аспект конструирования идентичности», и мы поддерживаем эту точку зрения. Структура гендерной идентичности, по G. Gianesini, включает: 1) принадлежность к биологическому полу; 2) знания о принадлежности к гендерной категории, что составляет ядро гендерной идентичности; 3) чувство гендерной совместимости с одной гендерной группой (полагаем здесь с очевидностью более сложную модель: анализ и переживание совместимости / несовместимости с различными гендерными группами. - авт. ); 4) соответствие / несоответствие гендеру в социальнопсихологических процессах гендерной типизации и атрибутирования человеку гендерных ролей, а также переживание давления в связи с этим; 5) наконец, сексуальная ориентация. Следовательно, гендерная идентичность представляет собой психическое образование, охватывает целый спектр гендерно-вариативных характеристик, детерминированных биологическими (генетическими и гормональными) и социальнокогнитивными (воспитание, стереотипы, гендерные роли) факторами [Gianesini, 2016].
Предлагаем следующее понимание: модели гендера как в теоретическом аспекте, так и в аспекте формируемой гендерной идентичности могут иметь различную степень сложности в зависимости от нарастания сложности процессов гендерной социализации. Первая и самая простая модель должна пониматься как дифференциация по биологическому полу, и она практически сразу задает дифференциацию коммуникативных систем взрослых, направленных на мальчиков и девочек. На протяжении всего младенчества мы имеем дело со сложной моделью гендера ребенка, реализуемой в поведении взрослых: ранее внутрисемейное воспитание осуществляется «по гендернодифференцированным направлениям» [Bigler, Hayes, Hamilton, 2013], является в основе своей гендерным воспитанием, предполагающим реализацию ребенком некоторого множества гендерно-маркированных ролей на каждом возрастном этапе, тем самым формируя предготов-ность к этому поведению. Так, метаанализ, проведенный H. Lytton и D. Romney [Lytton, Romney, 1991], выборка которого суммарно представлена более чем 27 тысячами детей, показал, что как только при взаимодействии с детьми у взрослых актуализируется проблематика гендерных ролей (одевание, помощь взрослым, игры), они начинают по-разному реагировать на сыновей и дочерей [Lytton, Romney, 1991; McHale, Huston, 1984; Roger, Rinaldi, Howe, 2012; Schoppe-Sullivan, Diener et al., 2006].
Каковы результаты ранней «гендерной социализации», а точнее, социализации как процесса, где ключевыми являются гендерные и гендерно-возрастные модели и «конструирование гендера»? Установлено, что в 6-месячном возрасте [Escudero, Robbins, Johnson, 2013] и / или в 9-месячном возрасте [Todd, Barry, Thommessen, 2016], что требует уточнения, дети предпочитают игрушки, типичные для гендера. На втором году жизни часть социальных ценностей детей раннего возраста являются гендерноопределенными [Осорина, 2007], в раннем возрасте они начинают осознавать себя лицом не просто мужского или женского пола, а людьми, которые склонны, способны и должны реализовывать себя в определенных социальных ролях с их психологическими характеристиками и поведением, и среди наиболее значимых социальных понятий и норм, усваиваемых детьми в раннем возрасте, оказываются гендерные понятия и нормы поведения [Кайл, 2000]. Существуют также конкретные данные о социальных представлениях детей: к двум годам жизни фиксируются гендерно-связанные предпочтения фотоизображений лиц, голосов [Boisferon, Dupierrix et al., 2015] и знания о гендерно-типичном пове дении и деятельности людей, в большей степени – у девочек [Serbin, Poulin-Dubois et al., 2001; 2002; 2010]. К трем годам в большинстве детских игр на уровне поведения и понимания реализуются гендерные стереотипы, например, мальчики предпочитают кубики и грузовики, а девочки - посуду и кукол, а также дети критически относятся к сверстникам, играющим в игры, характерные для противоположного пола [Karniol, 2009; Langlois, Downs, 1980], то же касается характеристик внешнего вида [Karniol, 2009].
Таким образом, понятия «гендер», «гендерные особенности» актуальны для младенчества (в отношении которого необходима активизация исследований) и являются вполне определенными для раннего детского возраста: поведение и социальное мышление - сознание детей регулируется взрослыми как гендерно-специфичное и уже реализует механизмы формирования гендерных особенностей, функционирующие в психике самого ребенка.
Для нашей работы важна актуализация проблемы формирования гендерно-специфичного социального сознания как результирующего в отношении опыта социальных взаимодействий ребенка и обработки им социальной информации. Социальное сознание репрезентируется в формы поведения, речи, языка, детские высказывания с использованием языка, соответственно, дают хорошие возможности для исследования гендерной специфики социального сознания и его «фрагментов» (субструктур). В этом смысле целью статьи является показать различия в структуре и содержании образа «я» и образа «другой» у мальчиков и девочек второго-третьего годов жизни по данным их речи и языка.
Методическое обеспечение и база исследования. Методов изучения социальных представлений – социального сознания существует немного: эксперимент, невключенное и включенное наблюдение, направленная беседа, контент-анализ. При этом и эксперимент, и наблюдение, и вербальные данные, полученные методом клинической беседы, требуют от исследователя последующей реконструкции социальных представлений [Маланчук, 2014].
В этом смысле контент-анализ с момента использования ребенком языка, интегрированного в формы речи, является самой информационноемкой технологией, что определяет его приоритетное использование в задачах исследования социальных представлений как элементов социального сознания.
Технология анализа речевых продуктов детей подробно описана нами в статье [Маланчук, Залевская, 2018]. Напомним кратко: высказывание сегментируется таким образом, что каждый отдельный сегмент идентифицируется как речевой жанр, за которым стоит особенная структура интенциональности [Маланчук, 2007; 2009]. Контент-анализу подвергаются проанализированные с этой позиции сегменты речи детей. Модификация контент-анализа в целях психологического исследования социальных представлений состоит в усложнении его психолингвистическими методами и методами анализа форм речи с точки зрения социальной информации высказывания - как эксплицитной, так и имплицитной.
База данных нашего исследования представляет собой описания фактов речевого взаимодействия детей второго и третьего годов жизни в различных ситуациях бытовой и игровой коммуникации. Записи детской речи производились в городах и других населенных пунктах Красноярского края в период с 2000 по 2014 год. Методом случайной выборки было отобрано 320 высказываний детей, из которых 160 принадлежит мальчикам, 160 – девочкам.
Критериями для выделения социальных представлений по текстам детей являются социальные смыслы, представленные в высказываниях, продуцируемых детьми. Для их обнаружения был использован метод экспертных оценок. Экспертная группа состояла их 4 чел. (3 чел. с высшим психологическим образованием, 1 чел. с высшим филологическим и психологическим образованием и ученой степенью кандидата психологических наук). Характер и наименования социальных представлений фиксировались только в том случае, когда эксперты приходили к согласованному мнению.
Частотный анализ был применен для выявления наиболее встречаемых в речи детей – мальчиков и девочек – компонентов образов «я» и «другой».
Результаты исследования. В результате анализа был получен список социальных представлений детей раннего возраста: ребенок как говорящий, то есть активно реализующий речевое поведение, слушающий - как испытывающий влияние партнера по коммуникации, субъект познавательной активности, который переживает свои состояния интеллектуальной активности, организатор ситуаций с участием коммуникативных партнеров, субъект позиционирования в определенном статусе и др.; дети и взрослые как значимые / незначимые, компетентные / некомпетентные, объекты управления, партнеры по коммуникации и деятельности и субъект, направленный на изменение своего статуса, некомфортного для ребенка; представления о партнерах в играх (их поведении, речи), о поступках людей; представления о теле, одежде как репрезентантах «я» и ряд других (полный список представлен в магистерской работе одного из авторов данной статьи: [Денисова, 2015]). На этой основе была создана типология социальных представлений, включающая: представления о себе, другом, об отношениях между партнерами по коммуникации, параметрах ситуаций с участием ребенка, третьих лиц и значимых предметов реальности, а также в рамках образов себя и другого - параметры осмысления психологического и социально-психологического уровней себя и другого: ментальный, эмоциональный, интенциональный, поведения (действий), речевого поведения.
Получены данные о различии субструктур социального сознания – образах «я» и «другой» – детей раннего возраста в гендерных выборках. Образ «я» и образ «другой» имеют разную степень когнитивной сложности и «семантической глубины» в сознании мальчиков и девочек.
Установлено, что представления ребенка о себе в изучаемом возрасте уже включают все возможные компоненты, а именно: эмоциональный, интенциональный (желания, потребности), действия и формы поведения, речевое поведение, ментальная сфера; представления ребенка о другом включают те же уровни. Однако их семантическая глубина, как понятно, имеет ограничения, при этом, безусловно, важно понимать, каков ее реальный уровень в данном возрасте.
Частотный анализ позволил выделить наиболее встречаемые в речи детей – мальчиков и девочек - характеристики в отношении каждого из этих компонентов образов «я» и «другой».
Представления о себе у мальчиков преимущественно актуализируют:
-
1) ментальный компонент: в речи и языке выражены социальными представлениями СП5 (Я носитель собственной активности, частота встречаемости -158), СП12 (Я компетентен в понимании ситуации, частота встречаемости – 40 (далее обозначаем частотность цифрой после наименования социального представления);
-
2) образ речевого поведения: СП3 (Я говорящий, 152), СП1 (Я откликающийся, 79);
-
3) поведенческий компонент: СП30 (Могу позиционироваться за счет объектов, субъектов, действий, намеренно менять свой статус, 99);
-
4) эмоциональный компонент выражен СП73 (Представление о своей эмоции, 114).
Интенциональный компонент образа «я» в высказываниях мальчиков почти не представлен.
Таким образом, можно считать, что мальчики фокусируются на информации о собственной активности, считывании и учете содержания внешней стороны значимых ситуаций; они обрабатывают информацию о своих эмоциях и репрезентируют ее в речи (хотя и с несколько меньшей частотой, чем девочки; см. ниже); с низкой частотой используют в речи и языке информацию о своих интенциональных состояниях, хотя, очевидно, их переживают, и это может указывать на использование других систем сигналов, нежели рече-языковые, при передаче информации о своих интенциях (например, это физические действия, прямо направленные на объекты, или языковое обозначение самих объектов, что находит отражение в особенностях языкового выражения требований в данном возрасте).
-
У девочек в структуре образа «я»:
-
1) ментальный компонент представлен теми же характеристиками, что и у мальчиков: СП5 (Я носитель собственной активности, 152), СП12 (Я компетентен / компетентна в понимании ситуации, 53) с большей частотой СП12, чем у мальчиков;
-
2) компонент «речевое поведение» представлен теми же социальными представлениями, что и у мальчиков: СП1 (Я откликающийся, 57) и СП3 (Я говорящий, 159), однако с меньшей выраженностью СП1 (Я откликающийся), что может свидетельствовать о специфике переживания своей речевой активности девочками;
-
3) поведенческий компонент представлен тем же социальным представлением СП30 (Могу позиционироваться за счет объектов, субъектов, действий, намеренно менять свой статус, 77) с меньшей выраженностью, чем у мальчиков;
-
4) эмоциональный компонент выражен с высокой частотой социальным представлением СП73 (Представление о своей эмоции, 146);
-
5) интенциональный компонент имеет низкую частотность в высказываниях девочек, так же, как и у мальчиков данного возраста.
Представления о «другом» у мальчиков содержат:
-
1) эмоциональный компонент: СП74 (Представление об эмоции «другого», 118), связанный с представлением о влиянии на эмоциональное состояние другого (СП23 – Могу влиять на эмоцию другого, 81);
-
2) интенциональный компонент образа «другого» представлен (СП59 – Нужно привлечь внимание, 43), что показывает необходимость и значимость осмысления ребенком информации о рассогласованности поведения партнера и самого ребенка как проблемы: требуется найти способ организовать сонаправленное внимание и вовлечь партнера в свою ситуацию для достижения цели;
-
3) поведенческий компонент образа «другого» представлен СП91 (Поведение другого может изменить ситуацию, 73), СП92 (Поведение другого может влиять на мою эмоцию, 121), СП22 (Могу управлять поведением другого, 70);
-
4) ментальный компонент представлен СП24 (Могу управлять другим за счет информации, 69);
-
5) компонент «речевое поведение» в образе «другого» представлен с минимальной частотой.
У девочек структура образа «другого» представлена:
-
1) эмоциональным компонентом, включающим СП74 (Представление об эмоции другого, 109) и СП23 (Могу влиять на эмоцию другого, 70);
-
2) интенциональным компонентом, который составляет СП59 (Нужно привлечь внимание другого, 53), СП77 (Представление о желаниях и намерениях другого, 4), для которых начинает быть актуальной информация о «глубинных», неочевидных состояниях партнера;
-
3) поведенческим компонентом, включающим СП92 (Поведение другого может влиять на мою эмоцию, 93), СП22 (Могу управлять поведением другого, 62), - с близкими выборке мальчиков показателями частотности; СП91 (Поведение другого может изменить ситуацию, 73), который имеет ту же частотность, что в выборке мальчиков;
-
4) компонентом «речевое поведение», который представлен с минимальной частотой, но с выраженным, в отличие от мальчиков, СП62 (Нужно представиться другому в коммуникации, 7);
-
5) ментальным компонентом, где значимо социальное представление СП24 (Могу управлять другим за счет информации, 43) - с меньшей частотностью, чем в высказываниях мальчиков.
Таким образом, обнаруживаются как семантическое сходство, так и семантические различия образов «я» в их компонентном составе у мальчиков и у девочек. В обеих выборках семантическая структура образа «я» включает ментальный, поведенческий, эмоциональный компоненты, а также компонент «речевое поведение» с различными показателями частоты представленности их в речи и языке.
Семантическая глубина образа «другой» у мальчиков и у девочек определена выраженностью компонентов эмоционального, интенционального, поведенческого и ментального в одинаковых актуальных в данном возрасте соци- альных представлениях со специфической их частотностью в выборках. У девочек, кроме того, обнаруживается компонент «речевое поведение» в аспекте соблюдения коммуникативного правила установления контакта с другим. У мальчиков выявляется большее понимание возможности влиять на другого за счет информации при близких показателях возможности влияния на другого в обеих выборках.
Заключение. В теоретическом плане представленные данные актуализируют необходимость исследовать социальное сознание детей в динамике детских возрастов при усложняющейся структуре гендерной идентичности. Актуальным остается кросс-культурный аспект гендерных исследований детского развития. Полученные данные позволяют предположить и в дальнейшем подробно изучить особенности как собственно психических, так и нейронных процессов, обеспечивающих формирование образов «я», «другой» (а также «я как другой», «другой как я») и «содержание социальных взаимодействий».
В прикладном аспекте крайне важным является развитие гендерных представлений и гендерной компетентности взрослых – родителей, педагогов раннего развития, в значительной степени моделирующих гендерную идентичность и гендерное поведение детей, что влияет на их коммуникативное и другие формы социального поведения в будущем. Требуется введение специализированных дисциплин в программы подготовки педагогов в системе среднего профессионального образования и в вузах.
Список литературы Развитие образов "я" и "другой" в раннем детском возрасте: гендерный аспект
- Авдеева Н. Коррекция нарушения образа себя в раннем возрасте//Дошкольное воспитание. 2003. № 3. С. 47-52.
- Дусказиева Ж.Г. Особенности материнского отношения к соматически ослабленным мальчикам//Вестник КГПУ им. В.П. Астафьева. 2015. № 1. С. 145-148.
- Каган В.Е. Когнитивные и эмоциональные аспекты гендерных установок у детей 3-7 лет//Вопросы психологии. 2000. № 2. С. 65-69.
- Кайл Р. Детская психология: Тайны психики ребенка. СПб.: Прайм-Еврознак, 2000. 416 с.
- Коатс Дж. Женщины, мужчины и язык//Гендер и язык/под ред. А.В. Кириллиной. М., 2005. С. 33-223.