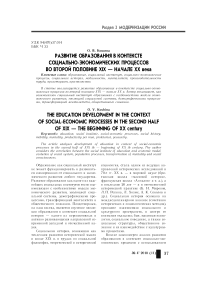Развитие образования в контексте социально-экономических процессов во второй половине XIX - начале ХХ века
Автор: Кошина Ольга Владимировна
Журнал: Экономическая история @jurnal-econom-hist
Рубрика: Модернизация России
Статья в выпуске: 4 (11), 2010 года.
Бесплатный доступ
В статье анализируется развитие образования в контексте социально-экономических процессов во второй половине XIX - начале ХХ в. Автор показывает, как взаимосвязан социальный институт образования с особенностями модели экономического развития, эволюцией социальной системы, демографическими процессами, трансформацией менталитета, общественного сознания.
Образование, социальный институт, социально-экономические процессы, социальная история, мобильность, менталитет, производительность труда, пролетариат, крестьянство
Короткий адрес: https://sciup.org/14723555
IDR: 14723555 | УДК: 94(470):37.014
Текст научной статьи Развитие образования в контексте социально-экономических процессов во второй половине XIX - начале ХХ века
Образование как социальный институт не может функционировать и развиваться изолированно от социального и экономического развития любого государства. Развитие образования как одного из важнейших социальных институтов тесно взаимосвязано с особенностями модели экономического развития, эволюцией социальной системы, демографическими процессами, трансформацией менталитета и общественного сознания. Плодотворным, на наш взгляд, является изучение эволюции образования в контексте социальной истории — одного из перспективных и активно развивающихся направлений современной западной и отечественной науки.
Социальная история, возникшая как тенденция развития исторической мысли в конце XIX в. в трудах по социальной философии, теоретической и исторической социологии, стала одним из ведущих направлений исторических исследований в 70-е гг. XX в. — в мировой науке (британская школа «массовой истории», французская школа «Анналов» и т. д.), а в последние 20 лет — и в отечественной исторической практике (Б. Н. Миронов, Л. П. Репина, Л. Холмс, А. К. Соколов и др.). Социальная история основана на междисциплинарном анализе (сочетании исторических и социологических методов), принципе взаимосвязи социального и культурного пространств, в центре ее внимания оказались быт, массовая психология, социальное поведение, а также социальные структуры, общественное сознание и их взаимодействие с культурными процессами.
Вполне закономерен анализ развития образования в контексте социально-экономических процессов с использованием подходов и методов социальной истории. Такой ракурс изучения истории образования актуален в силу сопоставимости некоторых параметров современной социально-экономической и социокультурной ситуации и сложившейся в указанный период. Сегодняшнее общество, так же как общество второй половины XIX — начала XX в., развивается в условиях изменения социально-экономической основы государства, социального и экономического расслоения населения, трансформации социальной структуры, роста социальной мобильности, смены менталитета, типов социального поведения. В периоды перехода от традиционного к индустриальному обществу (на рубеже XIX—XX вв.) и от индустриального к постиндустриальному обществу (на рубеже XX—XXI вв.) образование является одним из главных факторов становления новой экономической модели, иной социальной структуры, новых общественных отношений и ценностных приоритетов.
Бурное развитие капитализма, процессы индустриализации во второй половине XIX — начале XX в. выдвигали систему образования на место одного из главных факторов модернизации. Сегодня в условиях вызревания элементов постиндустриального общества в России интеллектуальный потенциал нации снова выступает как один из важнейших факторов экономической конкурентоспособности на международной арене. От качества системы образования во многом зависят возможности прорыва в области высоких технологий, а опосредованно — и уровень социального развития.
В этой связи исследование образования в контексте социально-экономических процессов позволяет выявить важные особенности образовательной ситуации изучаемого периода и наблюдать аналогии в современном социально-экономическом и социокультурном пространстве. Исследование предполагает обращение к научному инструментарию различных дисциплин: исторической социологии, исторической психологии, исторической демографии. Изучение истории образования в контексте социально-экономических процессов позволяет использовать воз можности теории модернизации.
Представляет интерес выявление взаимовлияния уровня грамотности и характера занятий населения, а также уровня его благосостояния. Такой анализ позволяют провести материалы земских подворных переписей и конкретные методики, разработанные земской статистикой во второй половине XIX — начале XX в. Немаловажно проследить взаимосвязь образовательных процессов и развития социальных микроструктур (семьи, школы, общины, прихода), а также крупных социальных групп и классов (крестьянства, духовенства, дворянства, мещанства, рабочих и др.) и социальных институтов и организаций (церкви, земств). Это позволяет выявить условия и закономерности развития образовательных процессов на разных социокультурных уровнях.
Идеологические императивы времени обусловили место и роль образования в социально-экономической жизни изучаемого периода. С одной стороны, XIX в. стал продолжением тенденций, заложенных в XVIII столетии — веке просвещения, разума, когда господствовало убеждение, что одним из главных факторов прогресса является образование населения, широкое распространение знаний, достижений науки. Разум в идеологии просвещения — это верховная сила, способная преобразить косную материю и заставить ее служить на благо человека. С другой стороны, к концу XIX в. появились радикальные политические силы, которые считали слишком медленным эволюционный путь усовершенствования общества при помощи распространения знаний, считали более эффективным революционный путь резких перемен государственного строя.
Расцвет естественных наук во второй половине XIX в., великие открытия которых быстро находили себе применение в производстве, порождал «технологический оптимизм» — представление о неограниченных перспективах технического прогресса, неисчерпаемости ресурсов, беспредельных возможностях науки. «Технологический оптимизм» рождал оптимизм исторический — возможность воплощения мечты о светлом будущем, ма- териальном изобилии, мирном сосуществовании народов и классов.
Расцвет науки способствовал также распространению убеждения об огромной роли науки и образования в экономическом и социальном развитии: «Значение теоретического мышления иллюстрируется особенно рельефно в наши дни. Новейшие изобретения: телеграфы, гальваническое серебрение и золочение, телефоны, извлечение из каменного угля красок и благовония, электрическое освещение и, наконец, великая, многообещающая новинка наших дней — передача механической силы на отдаленные расстояния; все это добыто учеными специалистами в результате длительного искания. Если знания являются основой промышленного прогресса, то распространение его в массе народа служит самым могущественным фактором к увеличению успешности народного труда. Мало того, что великие открытия были известны специалистам, необходимо, чтоб они разошлись в обширных кругах» [19, с. 49].
Одной из характерных черт социокультурного развития второй половины XIX в. стала демократизация системы образования, доступность знаний низшим слоям населения, лишенным возможности учиться на протяжении долгих предшествующих столетий. Однако консервативно настроенные идеологи видели опасность в широком распространении образования среди народа, полагая, что вместе с «чистым» знанием в народную среду проникнут с запада крамольные революционные идеи, угрожающие незыблемости политического и социального устройства России. Они исходили из установки на полезность религиозно-нравственного просвещения народных масс, ограниченного лишь элементами грамотности и церковного учения в духе преданности властям, религиозного смирения и патриархальных представлений осакральности монаршей власти.
Часть интеллектуальной элиты строила представления о роли образования на основе экономического детерминизма. Этот подход в ряду факторов, двигающих развитие общества и государства, знаниям и образованию отводил второстепен ное значение, считая их скорее украшением и следствием прогресса, чем его важнейшим фактором. Такой подход диктовал приоритет мер к умножению достатка над мерами к просвещению нации. Он вел к ограничению затрат на школы и просвещение, формированию остаточного принципа финансирования системы образования. В конце XIX в. в России расходовалось в среднем 18—19 коп. на школьное обучение одного жителя, тогда как в Соединенных Штатах — 4 руб. 85 коп., в Англии — 3 руб., во Франции — около 2 руб. на душу населения. На одного ученика в России приходилось 5 руб. 80 коп., в Америке и Англии — по 20 руб., во Франции — 10 руб. Учитель в России в среднем на конец 1870-х гг. получал от 100 до 200 руб. в гг., в Америке вознаграждение учителя составляло более 1 000 руб. [19, с. 64].
Однако идея социальной справедливости, равенства возможностей для разных социальных групп населения завоевывала все больше умов предпринимателей и общественных деятелей во второй половине XIX — начале XX в. Эта идея диктовала необходимость делиться с рабочим классом и крестьянством не только экономическими благами, но и благами культуры. Вопрос был связан и с устойчивым представлением многих земских деятелей и народников о необходимости возвращения интеллигенцией «морального долга» народу, долгое время лишенному доступа к знаниям.
Пристального внимания заслужил в конце XIX в. рабочий вопрос, в том числе применимо к проблемам образования. В 1899 г. в Санкт-Петербурге вышел сборник статей «Экономическая оценка народного образования». В нем были собраны доклады видных статистиков и экономистов о влиянии грамотности рабочих на производительность их труда. Обсуждалась мысль о том, что грамотность и общее образование населения приносят работодателю не только узко-утилитарную пользу в виде более квалифицированных работников и повышения качества продукции. Косвенным результатом роста грамотности рабочих является повышение общей культуры и интенсивно- сти труда: «Развитой умственно рабочий скорее выучивается всякому виду труда, в том числе особенно сложным видам; требует меньшего надзора; расходует меньше материала; меньше портит орудия и машины» [18, с. 71].
Образование расширяло кругозор рабочего класса, доступ к знаниям и достижениям культуры способствовал снижению недовольства, психологической загруженности рабочего от ежедневного выполнения тяжелой монотонной физической работы. Интересно, что общая грамотность рабочих благотворно сказывалась не только на выполнении сложных производственных операций, но и на качестве простой физической работы: «Даже в таком производстве, как литье железа, где, по-видимому, требуется одна лишь сила, по единодушным отзывам самих предпринимателей и рабочих, грамотность и образование всегда ведут к лучшей работе; более близкое знакомство литейщиков со свойствами материала давало возможность производить ту же работу при затрате сил на одну треть меньше. Даже в таких низменных работах, как метение улиц, поднятие тяжестей, колка и пилка дров — и тут даже самое малое развитие рабочего отражается на улучшении приемов труда» [21, с. 7].
Заботу об образовании рабочих проявляли даже лучшие гигиенисты того времени, которые считали, что повышение культурного уровня пролетариата не менее важная проблема, чем улучшение их питания и жилищных условий. Образование повышало нравственность, способствовало снижению пьянства в рабочей среде, бытовой жестокости, повышению общей культуры поведения и гуманизации нравов. Таким образом, образование выступало в роли социокультурного механизма совершенствования социальной и экономической системы.
Индустриальное общество, приходившее на смену традиционному, предъявляло новые требования к психофизическим качествам личности. Городская жизнь и обслуживание машин на производстве требовали от рабочих большей коммуникабельности, повышенного внимания, наблюдательности, гибкости мышления, ак куратности, четкости действий, то есть тех качеств, которые в размеренном, подчиненном природным ритмам сельском существовании не были в такой степени востребованы. По этой причине американская школа конца XIX в., например, старалась дать ученикам не только формальное книжное знание, но развить в них такие свойства ума и психики, которые необходимы человеку даже при самом скромном месте на промышленном производстве: «В учебном плане бостонских школ были особые “уроки наблюдения” по 15 минут ежедневно. Учеников заставляли следить за погодой и отмечать изменения в ней, запоминать все виденное по дороге в школу с изображением своих наблюдений письменно или в виде рисунков. Внимание зрения и слуха играло большую роль в работе ткачих, оно упражнялось в начальных школах особыми приемами, состоящими в быстром записывании на доске слов или фраз, которые моментально должны быть подхвачены классом» [22, с. 81—82].
Особого внимания заслуживает проблема взаимного влияния уровня грамотности и экономического достатка населения применимо к крестьянскому населению. Перед освобожденным от крепостной зависимости крестьянством стояла задача вписаться в новую структуру социальноэкономических отношений, адаптироваться к условиям развития частной собственности, конкуренции на рынке кустарной промышленности, роста городского населения. Поэтому грамотность сельского населения в связи с социально-экономическими условиями развития крестьянских хозяйств обсуждалась на съездах русских естествоиспытателей и врачей Императорского Вольного экономического общества [17, с. 213—254]. На обширных экскурсах в состояние проблемы в Европе и Америке авторы статей доказывали более высокую рентабельность использования дорого оплачиваемого квалифицированного труда наемных работников перед эксплуатацией дешевых, но безграмотных и непрофессиональных крепостных.
Новые экономические условия завершения формирования всероссийского рынка, развития транспортной сети, раз- деления труда, специализация районов требовали новых навыков и знаний от русского крестьянина. Многовековой традиционный способ распространения знаний и умений среди крестьянства путем примера и подражания должно было заменить систематическое образование в начальных училищах.
Однако процесс распространения грамотности шел очень медленно. В Швеции и Дании в конце XIX в. при приеме на военную службу уже не встречалось безграмотных, в Германии и Швейцарии их было не более 2 %. В России в 1896 г. процент безграмотных новобранцев равнялся 59 % [19, с. 65]. Это было одной из главных причин медленного вовлечения крестьянства в рыночные отношения, сложной их адаптации к требованиям новой экономической ситуации. «Погрязший в вековую рутину земледелец рабски подчиняется условиям окружающей обстановки и равнодушно смотрит, как из года в год ухудшаются жатвы на его земле, уходят из рук привычные заработки, понижаются цены производимых им изделий. Ему даже и в голову не приходит, что иногда в нескольких шагах от него находится новое выгодное применение труда. Что незначительное улучшение в устройстве плуга или в обработке парового поля может наполовину увеличить урожай...» [19, с. 67].
Эволюция образования изучаемого периода была тесно сопряжена с особенностями социально-демографических процессов. На протяжении второй половины XIX — начала XX в. женская половина населения России переживала процесс эмансипации, обусловленный социальноэкономическими реформами и изменением социокультурной ситуации. Менялся общественный взгляд на необходимость и функции женского образования, выросла востребованность образования различными социальными и демографическими группами женщин.
Во второй половине XIX века женское образование было слабо развито в России. По Первой Всеобщей переписи населения 1897 г. грамотных мужчин было в поволжских губерниях в 5 раз больше, чем грамотных женщин [9, с. 10;
10, с. 5—6; 11, с. 9; 12, с. 5—7]. В 1879 г. среди учеников начальных училищ числилось 79% мальчиков и 21% девочек [14, с. 208—219].
Процент учащихся девочек был выше среднего по России в промышленно развитых Прибалтийских и Санкт-Петербургской губерниях, где женская эмансипация шла быстрее, а также в Казанской, Саратовской, Самарской, Таврической, Херсонской губерниях, где было немало иноверческих конфессиональных школ, в которых училось много девочек. Женская грамотность в Московской губернии, например, отставала от мужской всего в 2 раза. Напротив, в сельскохозяйственных крестьянских регионах (Симбирская, Пензенская губернии) женская грамотность опускалась до 3—4 % даже в 1910— 12 гг, отношение ее к мужской грамотности было как 1 к 7 [1, с. 38].
Одной из важных причин медленного развития женского образования был преимущественно сельско-хозяйственный характер занятий населения. В годы хорошего урожая в крестьянских хозяйствах требовались рабочие руки несовершеннолетних детей. Многие из девочек оставляли школы, помогали дома убирать прядево, картофель, выполняли другие посильные работы. Девочки часто привлекались к домашним заботам, уходу за младшими детьми, что отвлекало их от учебы.
Тормозом развития женской грамотности были и устойчивые стереотипы, заложенные в крестьянском менталитете. Большая часть населения считала, что в женском образовании можно ограничиться начальными навыками чтения и письма. Народная поговорка говорила сама за себя: «Бабе дорога — от печи до порога». Даже распределение учащихся мальчиков и девочек по возрастным группам было неодинаковым. Семилетних мальчиков в то время в школах принимали неохотно. По наблюдениям педагогов, они плохо осваивали курс, оставались еще на год, поэтому обременяли бюджет и занимали место восьмилетних. Поэтому мальчиков приводили в школу в возрасте 8—9 лет. Девочек, напротив, старались привести в училище пораньше, в возрасте 7—8 лет, потому что, повзрос- левшие, они понадобятся для помощи в хозяйстве. С возрастом учеников прослеживается тенденция: начиная с 11 лет число учениц резко сокращается, так как девочки-подростки все чаще отвлекаются на уборку урожая, домашние работы, уход за младшими детьми. Число мальчиков с возрастом убывает не так стремительно. Они чаще, чем девочки, оканчивают полный школьный курс [14, с. 82—105].
Крестьяне считали, что девочек обучать не имеет смысла, их дело — помогать матери в хозяйстве. Согласно результатам опроса, проведенного в 1894 г. в Московском и Можайском уездах, население считало, что «...обучение девочек несет с собой расходы. А если их не обучать, то можно получать барыш, потому что каждая девочка школьного возраста может заработать себе на хлеб, оставаясь дома. А чтобы отправить ее в школу, нужно не только лишиться ее заработка, но еще ее одеть, на что нужно 5—10 рублей. Правда, и мальчик мог бы заработать, не ходя в школу, но, выучившись грамоте, он найдет себе потом лучшее место. Грамотная девушка, выйдя замуж, покинет семью, и от ее грамотности семья ничего не выиграет» [5, с. 461—462]. На отношение крестьян к женскому образованию влияли особенности крестьянского жизненного уклада и неравноправное положение женщин. Низкий социальный статус женщины, высокая хозяйственная нагрузка на женщин в условиях преимущественно сельскохозяйственного характера деятельности населения и устойчивости традиционного патриархального мышления усложняла процесс вовлечения женщины в сферу образования.
Во время первой русской революции крестьянские женщины начали выражать протест против своей безграмотности, связанной с неравноправным положением в обществе. Крестьянские наказы пестрят заявлениями, подобными наказу крестьянок села Старый Буян Самарской губернии: «Мужики говорят: “У бабы волос долог, да ум короток”, но забывают при этом, что сами виноваты в неразвитости нашей. Еще не так давно отцы наши говорили: “На что девке грамота, и так за муж выйдет”. Нужда и непосильная работа отнимают у нас много сил и негде, да и некогда нашим бабам уму-разуму набираться. Наравне с мужиками несем мы полевые работы, домашнее хозяйство целиком почти на нас лежит. Понятно, некогда тут уже о себе подумать, книжку полезную почитать™» [6, с. 76].
Низкая потребность в женском образовании была связана также с тем, что функция женщины в социально-культурной среде ограничивалась ролью матери и жены. Однако именно эта женская роль вскоре стала обоснованием необходимости обучения женщин. В общественном сознании второй половины XIX в. была популярна мысль об огромном влиянии, которое оказывает женщина на нравственную атмосферу семьи и общества в целом. Многие общественные деятели обращали внимание на пагубность ситуации, в которой уровень мужской грамотности резко контрастировал с уровнем женской в пределах одной сословной группы и даже в одной семье. Этот контраст разрушал гармонию отношений внутри семьи. Это снижало общий уровень культуры в обществе, поскольку женщина в большей, чем мужчина, степени формировала, сохраняла и передавала следующему поколению нравственные традиции и ценностные ориентации. Безграмотная или малограмотная женщина не могла сформировать в детях устойчивую тягу к знаниям и понимание ценности образования.
По мере усложнения социальной структуры, вовлечения крестьянства в торговые отношения крестьяне приходили к осознанию необходимости образования девочек. Немаловажную роль в этом сыграло понимание огромной роли грамотной матери в воспитании своих детей. Из 551 ответа на вопрос о пользе обучения девочек статистик Ф. А. Щербина в конце XIX в. получил 68 % положительных ответов, 16 % — безразличных и 15 % — отрицательных [16, с. 38]. В исследовании по Симбирской губернии за 1902—03 гг. содержатся факты, говорящие об изменении отношения крестьян к обучению девочек: «Из 200 учащихся в с. Б. Березники 70 девочек. Есть даже желание строить школу для девочек. В с. Турдаково Арда- товского уезда стали отдавать в школу девочек. В целом по губернии растет процент учащихся девочек» [7, с. 31—33]. На рубеже XIX—XX вв. увеличился процент учениц среди учащихся с 15 % в 1894 г. до 27 % в 1914 г. [8, с. 57; 15, с. 13].
В первой половине XIX в. и в дореформенное время учителями начальной школы в России были преимущественно мужчины. В 1870-е гг. в школе появились учительницы, являясь скорее исключением, чем правилом. В следующее десятилетие женщины уже занимали заметную, хотя и меньшую, часть учительского персонала (20 %).
К началу XX века учительский труд стал прерогативой женской половины населения России. Количество женщин среди учителей выросло с 33 % в 1894 г. до 68 % в 1914 г. [8, с. 57; 15, с. 13]. Наряду с эволюцией общественного сознания, это было обусловлено социально-экономическими причинами. Низкое жалование и неопределенный социальный статус учителей начальной школы не могли привлечь большое количество мужчин к педагогической деятельности. При наличии соответствующего образования мужчина стремился к более высокооплачиваемой и социально защищенной профессии. Женщины, не выдерживая конкуренции с мужчинами на других, более престижных должностях, мирились с нелегкой долей учительницы. Во второй половине XIX — начале XX в. почти единственной профессией для женщин была учебная и воспитательная деятельность. Поэтому, будучи еще во второй половине XIX в. преимущественно мужским занятием, в начале XX в. педагогическая деятельность в начальной школе стала главным образом женской профессией.
Следует заметить, что городское население более лояльно относилось к женскому образованию. Ученицы составляли в городских училищах более заметную часть (40 % всех учеников), чем в сельских (12%). Городские учительницы составляли 64 %, сельские — всего 43 % всех учителей [8, с. 57].
Эволюция образования тесно связана с социально-демографическими законо мерностями времени. Исследование возрастного состава учителей выявляет заметную молодость преподавателей в начальных училищах во второй половине XIX в. Наибольший процент учительниц (47 %) составляли девушки 20 лет и моложе. Среди мужчин выше процент (47 %) молодых людей 20—25 лет. Такая молодость большей части учительского персонала того времени обусловлена несколькими факторами. Первый фактор можно определить как демографический. Средняя продолжительность жизни в конце XIX в. в силу естественно — исторических причин была ниже современной. В возрасте 30—50 лет женщин в школах насчитывается всего 5 %, мужчин только 12 %. Учитель после 50 лет был большой редкостью (1,5 %). Женщин-учительниц такого возраста почти не встречается (0,3 %) [14, с. 208—210].
Вторым фактором, способствовавшим молодости учительского персонала, был социально-экономический. Мужчины, как правило, не задерживались в школе. Они стремились к более высокооплачиваемым должностям. С возрастом, при наличии хорошего образования, такая возможность для них рано или поздно предоставлялась. Третий фактор был связан с особенностями общественного сознания того времени. Количество женщин убывает в старших возрастных группах, так как женщины, выходя замуж, оставляли службу. Замужние женщины того времени редко реализовывали себя на общественном поприще.
Семейное положение учителей также показательно. Господствующий контингент преподающих составляли девицы (90 %), среди мужчин холостяки составляли 58 %. Замужних среди женщин было всего 5 %, а женатых мужчин достаточно много (40 %) [14, с. 194—199]. Преобладание холостяков и незамужних женщин среди учителей было обусловлено в первую очередь объективной причиной — молодостью учительского персонала. Большое число девиц среди учительниц объясняется уровнем развития общественных отношений. Замужние женщины того времени, как правило, оставляли место учительницы. На решение большинства мужчин-пе- дагогов отложить женитьбу в немалой степени влияло недостаточное материальное обеспечение учителей. Подтверждение тому находим в наблюдениях известного деятеля народного просвещения того времени С. А. Рачинского, который много лет испытывал на себе трудности жизни сельского учителя: «Огромное большинство наших сельских учителей — люди молодые и холостые. Скудного их жалования едва хватает на их содержание, и о затратах на обзаведение хозяйства не может быть и речи» [13, с. 115].
Исследование сословного состава учительства показывает изменение социального положения различных сословий в социально-профессиональной структуре во второй половине XIX — начале XX в. В дореформенный период учителями и учительницами были в основном выходцы из семей священнослужителей. Члены церковного причта и их жены учили детей началам грамоты. В 1860-е гг. появляются учителя из крестьян, так как школы казенного ведомства были переданы крестьянским сельским обществам. В следующее десятилетие, когда земства берут в свои руки дело народного просвещения, учителями также становятся грамотные горожане. Постепенно спектр сословий, поставляющих учителей, расширялся.
На территории мордовского края, например, во второй половине XIX в. контингент учителей формировался в основном из четырех сословий: священнослужителей (60 % учителей; 52 % учительниц), мещан (12 % учителей; 12 % учительниц), личных и потомственных дворян (учительниц (24 %; учителей 10 %), крестьян (14 % учителей; 8 % женщин) [14, с. 47—49, 208—219].
Такой социальный состав учительского персонала объясняется социокультурной ситуацией, сложившейся во второй половине XIX в. Среди учителей и в России в целом, и в регионах преобладали выходцы из семей духовенства. Обучение местных ребятишек элементам грамоты было традиционной обязанностью приходских священников и их жен еще в дореформенное время. Дочери священнослужителей после окончания епархиаль ного училища тоже в большинстве своем становились сельскими учительницами. Сыграло свою роль и то обстоятельство, что кандидаты на места священнослужителей в 1880-е гг. уже не обязаны были жениться на лицах духовного звания, как прежде. К тому же в эти годы количество мест священнослужителей было заметно сокращено. Не имея возможности получить приход, священнослужители учительствовали в сельских школах.
Почти четвертая часть учительниц была из семей личных и потомственных дворян. Важным обстоятельством, подтолкнувшим дворянских дочерей к педагогической деятельности, было снижение доходов многих дворян после отмены крепостного права. Прежде статус дворянина определялся количеством крепостных. Теперь, с потерей бесплатной рабочей силы, многие дворяне разорились, дворянские гнезда приходят в упадок. Дворянским дочерям приходилось зарабатывать на жизнь своим трудом, а для этого необходимо было образование. Раньше они довольствовались домашним образованием, ведь их будущее замужество зависело не от уровня образованности, а от количества крепостных у отца. С исчезновением последних родителям трудно стало выдавать дочерей замуж, потребовалось систематическое образование — школа, гимназия, институт. Таким образом, для девушек этого сословия педагогическая деятельность была почти единственным средством к самостоятельной жизни. Они могли давать частные уроки, работать гувернантками или школьными учительницами.
Изменения, произошедшие в социальном составе учителей к началу XX в., можно наблюдать на примере Симбирской губернии. Среди учителей стало в 5 раз больше крестьян (учителей: 70 % — в 1902—1903 гг., 14 % — в 1880 г.; учительниц: 40 % — в 1902—03 гг., 8 % — в 1880 г.), что свидетельствует о том, что процесс эмансипации затронул и крестьянскую среду. В 3,5 раза снизилось число учителей и в 1,5 раза — учительниц из духовенства. Представителей дворянства осталось всего 3 % среди учителей и 9 % — среди учительниц [7, с. 133], т. е.
представители всех сословий в учительском персонале вытеснялись за счет прибыли крестьянства в педагогический состав начальных школ.
Дальнейший рост количества учительниц из крестьян подтверждают и архивные данные об ученицах Саранской женской прогимназии, потом гимназии, большая часть которых становились учительницами начальных школ: в 1906 г. в этом учебном заведении девушки из крестьянских семей составляли 22 % учениц, в 1909 г. — 27, в 1910 г. — 34, в 1911 г. — 37, а в 1916 г. — уже 64 % [18, л. 5—6].
В силу изменившихся социально-экономических условий, общественного сознания, структуры общественных отношений, эволюции демографических процессов социальный и демографический состав учителей претерпел изменения в сторону роста количества крестьян в народной школе и преобладания женщин в учительском персонале. Освобожденное крестьянство и эмансипированная жен щина нашли свою нишу в новой социально-профессиональной структуре.
Огромное влияние на уровень грамотности сельского населения оказывал характер его хозяйственной жизни. В таблице [2, с. 23—153; 3, с. 22—167; 4, с. 21 — 160] содержатся результаты наших подсчетов уровня грамотности в трех уездах Пензенской губернии в зависимости от величины надела. Как видим, показатель «Хозяйств с учащимися, %» растет с ростом надела во всех трех уездах. Начальная школа во второй половине XIX — начале ХХ в. платы за учение как таковой не взимала, но требовала от крестьян определенных затрат: на теплую одежду и обувь детям, на книги и письменные принадлежности. Крестьяне нередко нанимали учителя на зиму для обучения детей, например, в самостийных школах грамоты. Крестьянская община, как правило, строила и отапливала школьное здание. Зажиточные крестьяне имели больше свободных средств для обучения детей.
Таблица
Зависимость грамотности от величины надела в Краснослободском, Инсарском и Саранском уездах в 1911 г.
|
Показатели грамотности. |
I группа |
II группа |
III группа |
IV группа |
|
Краснослободский уезд Грамотных мужчин-работников, % |
28,3 |
29,1 |
31,1 |
35,6 |
|
Хозяйств с учащимися, % |
6,2 |
9,8 |
15,7 |
23,0 |
|
Инсарский уезд Грамотных мужчин-работников, % |
28,5 |
25,0 |
25,2 |
35,1 |
|
Хозяйств с учащимися, % |
3,8 |
5,1 |
13,6 |
28,0 |
|
Саранский уезд Грамотных мужчин-работников, % |
37,2 |
36,8 |
37,8 |
47,2 |
|
Хозяйств с учащимися, % |
6,5 |
11,2 |
17,5 |
29,7 |
Однако другой показатель, «Грамотных мужчин-работников, %», ведет себя иначе. Начиная со второй группы хозяйств он растет, однако в первой «бедняцкой» группе в Инсарском и Саранском уездах грамотность мужчин-работников превышает уровень грамотности работников второй группы. Если обратиться к аналогичным поволостным данным соотношения величины надела и уровня грамотности, то мы обнаружим, что грамотность малоземельных и безземельных мужчин-работников нередко не только превышала уровень второй и третьей групп, но приближалась или даже превышала грамотность четвертой состоятельной группы хозяйств. Например, в Бело-Ключевской волости Саранского уезда грамотность мужчин-работников по надельным группам изменяется так: в первой — 75 %, во второй — 12, в третьей — 15, в четвертой — 28 % [4, с. 44—45]. Безнадельные и малоземельные крестьяне (как правило, мужчины-работники), лишенные надежного источника существования на селе достаточного количества земли, вынуждены были подрабатывать ремеслом, отправляться в город на заработки, заниматься отхожим промыслом.
Условия работы в промысле, занятие торговлей и специфика городской жизни побуждали крестьян-отходников расширять кругозор, повышать грамотность, приспосабливаясь к более высокому культурному уровню городской среды. Часто безнадельные крестьяне приобретали знания вне организованной школы, например от грамотных родственников, бродячих «грамотеев», соседей в городском бараке, по газетным вырезкам, вывескам магазинов, на курсах. Они были побуждаемы к этому условиями жизни в городе, работы в промыслах, занятием торговлей. Таким образом, одним из мощных толчков развития грамотности были отхожие промыслы и урбанизация населения.
Таким образом, исследование эволюции образования в контексте социальноэкономических процессов во второй половине XIX — начале XX в. дает плодотворные результаты. Оно позволяет выявить условия, сдерживающие развитие образования и факторы, стимулирующие культурный прогресс. Преимущественно сельскохозяйственный характер хозяйственной деятельности и проблема малоземелья населения России во второй половине XIX — начале XX в. сдерживали широкое распространение грамотности. Распространению образования способствовали процессы социальной дифференциации и мобильности населения, развития торговли, кустарных промыслов, особенно отхожих, урбанизация населения. Исследование выявило важные функции образования как социального института в условиях перехода от традиционного к индустриальному обществу: повышение производительности труда рабочего класса, адаптации крестьянства к новой модели экономического развития, повышение социальной мобильности, формирование новых ценностных установок в общественном сознании, ускорение процесса женской эмансипации. Образование становится социальным капиталом и самостоятельным экономическим фактором, наряду с другими условиями, способствовавшим процессу модернизации.
Список литературы Развитие образования в контексте социально-экономических процессов во второй половине XIX - начале ХХ века
- Богданов И.М. Грамотность и образование и в дореволюционной России и в СССР (Историко-статистические очерки)/И.М. Богданов. -М.: Изд-во Статистика, 1964. -195 с.
- Итоги оценочно-статистического исследования Пензенской губернии. Вып.3. Краснослободский уезд. -Пенза: Паровая тип.-лит. тов-ва А. И. Рапопорт и Ко, 1913. -200 с.
- Итоги оценочно-статистического исследования Пензенской губернии. Вып.5. Инсарский уезд. -Пенза: Паровая тип.-лит. тов-ва А. И. Рапопорт и Ко, 1913. -185 с.
- Итоги оценочно-статистического исследования Пензенской губернии. Вып.8. Саранский уезд. -Пенза: Паровая тип.-лит. тов-ва А. И. Рапопорт и Ко, 1913. -166 с.
- Каптерев П.Ф. История русской педагогии./П.Ф. Каптерев. -Петроград: Изд-во «Земля», 1915. -746 с.
- Крестьянские наказы Самарской губернии. Опыт собирания материалов русской революции. -Самара: Тип. А.Н. Хардина, 1906. -88 с.
- Начальное народное образование в Симбирской губернии по данным 1902-03 гг. -Симбирск: Губ. типогр., 1905. -150 с.
- Начальное народное образование в России. -СПб.: Типогр. тов-ва «Народная польза», 1900. Т. 1. -407 с.
- Первая всеобщая перепись населения Российской Империи 1897 г. Т. 25 Нижегородская губерния. -СПб.: Типогр. «Слово», 1904. -131 с.
- Первая всеобщая перепись населения Российской Империи 1897 г. Т. 30 Пензенская губерния. -СПб.: Типогр. «Слово», 1904. -257 с.
- Первая всеобщая перепись населения Российской Империи 1897 г. Т. 39 Симбирская губерния. -СПб.: Типогр. «Слово», 1904. -177 с.
- Первая всеобщая перепись населения Российской Империи 1897 г. Т. 42 Тамбовская губерния. -СПб.: Типогр. «Слово», 1904. -255 с.
- Рачинский С.А. Сельская школа/С.А. Рачинский. -М.: Педагогика, 1991. -176 с.
- Статистический временник Российской империи. Сер.3. Вып.4. -СПб., 1884. -230 с.
- Статистический обзор начального образования в Пензенской губернии за 1913-14 у/г. -Пенза: Паровая тип.-лит. тов-ва А.И. Рапопорт и Ко, 1915. -175 с.
- Терентьев А.А. Российская школа: становление, развитие, перспективы. Социально-философские проблемы/А.А.Терентьев. -Н. Новгород: Изд-во ВВАГС, 1997. -120 с.
- Труды подсекции статистики XI съезда русских естествоиспытателей и врачей Императорского Вольного экономического общества в С-Петербурге 20-30 декабря 1901 г. -СПб.: Типо-лит. М.П. Фроловой, 1902. -518 с.
- ЦГА РМ. Ф. 55. Оп. 1. Д. 17. Д. 24. Д. 39.
- Чупров А.И. Знание и народное богатство//Экономическая оценка народного образования. Очерки И.И. Янжула, А.И. Чупрова, Е.Н. Янжул, В.П. Вахтерова и др. -СПб.: Тип. А. Бенке, 1899. -С. 44-67.
- Чупров А.И. Об экономическом значении образовательных и воспитательных учреждений для рабочего класса//Экономическая оценка народного образования. Очерки И.И. Янжула, А.И. Чупрова, Е.Н. Янжул, В.П. Вахтерова и др. -СПб.: Тип. А. Бенке, 1899. -С. 68-74.
- Янжул И. Значение образования для успехов промышленности и, торговли//Экономическая оценка народного образования. Очерки И.И. Янжула, А.И. Чупрова Е.Н. Янжул, В.П. Вахтерова и др. -СПб.: Тип. А. Бенке, 1899. -С. 1-26.
- Янжул Е. Влияние грамотности на производительность труда//Экономическая оценка народного образования. Очерки И.И. Янжула, А.И. Чупрова, Е.Н. Янжул, В.П. Вахтерова и др. -СПб.: Тип. А. Бенке, 1899. -С. 75-83.