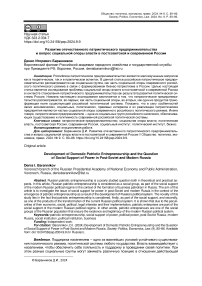Развитие отечественного патриотического предпринимательства и вопрос социальной опоры власти в постсоветской и современной России
Автор: Баранников Д.И.
Журнал: Общество: политика, экономика, право @society-pel
Рубрика: Политика
Статья в выпуске: 9, 2024 года.
Бесплатный доступ
Российское патриотическое предпринимательство является малоизученным вопросом как в теоретическом, так и в практическом аспектах. В данной статье российское патриотическое предпринимательство рассматривается как социальная группа, как часть социальной опоры современного российского политического режима в связи с формированием бизнес-патриотизма в России. Целью настоящей статьи является исследование проблемы социальной опоры власти в постсоветской и современной России в контексте становления патриотического предпринимательства как результата развития политической системы России. Новизна настоящего исследования заключается в том, что патриотическое предпринимательство рассматривается, во-первых, как часть социальной опоры, во-вторых, как один из продуктов трансформации ныне существующей российской политической системы. Показано, что в силу особенностей своих экономических, социальных, политических, правовых интересов и их реализации патриотические предприятия являются частью социальной опоры современного российского политического режима. Иначе говоря, патриотические предприниматели - одна из социальных групп российского населения, обеспечивающих существование и легитимность современной российской политической системы.
Патриотическое предпринимательство, социальная опора власти, политическая власть, постсоветская Россия, современная Россия, социальный институт, политический институт, бизнес
Короткий адрес: https://sciup.org/149146437
IDR: 149146437 | УДК: 323.2:334.7 | DOI: 10.24158/pep.2024.9.9
Текст научной статьи Развитие отечественного патриотического предпринимательства и вопрос социальной опоры власти в постсоветской и современной России
власти. Одной из групп населения являются бизнесмены. В позднесоветской России предприниматели официально появились, когда в 1987 г. вступил в действие Закон «Об индивидуальной трудовой деятельности»1, и существуют вплоть до сегодняшнего дня. В этот период отношения власти и бизнеса претерпели значительную трансформацию, появилось явление, концептуализируемое понятием «патриотическое предпринимательство».
Целью настоящей статьи является исследование вопроса социальной опоры власти в постсоветской и современной России в контексте становления патриотического предпринимательства как результата развития политической системы России. Новизна настоящего исследования заключается в том, что патриотическое предпринимательство рассматривается, во-первых, как часть социальной опоры, во-вторых, как один из продуктов трансформации ныне существующей российской политической системы.
Вопрос социальной опоры и устойчивости власти . Обычно в политологическом исследовании применяются такие термины, как «группы интересов», «группы давления (лобби)», «социальная база», «электорат» и т. д. Однако если использовать данные термины применительно к патриотическому предпринимательству, то возникает ряд сложностей. Во-первых, будут рассмотрены довольно важные и интересные вопросы, которые вряд ли дадут комплексное понимание динамики политической системы, политического режима. Во-вторых, стоит обратить внимание на интересы предпринимателей. Есть ли они у них? Есть. Существуют ли организации, через которые предприниматели их лоббируют? Да, например, бизнес-ассоциации. Значит и группы давления у них тоже есть. Также вполне уверенно можно как минимум предположить, что предприниматели голосуют на выборах за различные политические силы и, меняя род занятий с бизнеса на политику, могут избираться от различных политических сил. В-третьих, если рассматривать не всех предпринимателей, а только патриотических, то первые два пункта сохраняют свою актуальность. Также отметим, что они голосуют за те политические силы, которые отстаивают национальные интересы. Учитывая данные обстоятельства, использование терминов «группы интересов», «группы давления (лобби)», «социальная база», «электорат» и других, видится малоприменимым в рамках данного исследования.
Понятие «социальная опора власти» (социальные группы, обеспечивающие поддержку существования власти правящей группы или лидера) обычно используют историки. Например, применительно к России, они говорят о социальной опоре Российского правительства перед Февральской революцией (Жаров, 2006), советской власти в 1917‒1920-е гг. (Федоров, 2010), сталинского режима (Курбангалиева, 2020) и т. д. В этих случаях историки также имеют в виду социальные группы, но рассматривают их с другой точки зрения. Во-первых, в данном случае проблема активности или пассивности поддержки, а также ее формы уходят на второй план: скорее принимается как факт, что одна часть социальной опоры действует активно, а другая ‒ пассивно, при этом приемлемы разные формы поддержки. Во-вторых, подчеркивается наличие общих взаимных интересов – власть выражает и отстаивает экономические и социальные интересы своей социальной опоры, а социальная опора поддерживает политическую систему и политику власти. В-третьих, подразумевается, что значительная социальная опора обеспечивает в полном смысле легитимность власти. В-четвертых, наличие социальной опоры делает общество, с одной стороны, более управляемым, а с другой ‒ функционирующим более эффективно, потому что лучше происходит взаимопонимание между властью и обществом.
Современный отечественный историк А.А. Сагомонян продолжает: «Наполеон I неоднократно повторял, что испанцы должны быть ему благодарны за избавление от неисчислимых страданий, ‒ ведь именно он избавил испанцев от “их ужасных органов власти”, одарил их либеральной конституцией, запретил суды инквизиции. Однако и этот тезис весьма далек от реальности» (Сагомонян, 2014: 618). Проще говоря, крестьяне и горожане не являлись социальной опорой его власти, они были большинством населения. В итоге это привело к восстанию, которое было поддержано Англией. Французская власть не могла удержать в повиновении всю территорию Испании. После ликвидации режима Бонапарта во Франции на всей территории Испании был установлен другой политический режим.
Можно провести аналогию с российским крестьянством в период Великой российской революции и Гражданской войны. «Опора на крестьянство как на крупнейший социальный слой могла укрепить власть Колчака в регионе и обеспечить белым безопасный тыл» (Зорин, Петров, 2022: 265). Но не вполне внятная аграрная политика правительства адмирала А.В. Колчака и изменение политики большевиков в отношении крестьянства повлияли на ситуацию. «“Беднота” верила большевикам и ждала от них земли. Белые же стремились заручиться поддержкой крепких хозяев и середняков, но не преуспели в этом, ибо не гарантировали даже им права на землю и свободную хозяйственную деятельность, а в итоге – сами оказались в состоянии “войны” с крестьянством» (Зорин, Петров, 2022: 267).
По сути, крестьянство было одной из социальных опор власти большевиков. Однако большевики отрицали необходимость частной собственности. При В.И. Ленине, несмотря на это, они придерживались политики НЭПа, которая предполагала сосуществование с рынком. Но с приходом к власти И.В. Сталина началась коллективизация. С одной стороны, это была подготовка к индустриализации – необходимо было высвободить ресурсы из деревни и перенаправить их в город. С другой стороны, частные собственники не могли быть социальной опорой власти при социализме – экономические и политические интересы социалистической власти и частных собственников значительно отличались. Массовое сохранение частной собственности, пусть и мелкой, очевидно порождало бы оппозицию.
Итак, политический режим может существовать без социальной опоры, но в таком случае он будет неустойчивым и нестабильным. Будет наблюдаться постоянный антагонизм власти с населением страны, и, вероятно, в скором времени такой режим будет заменен на более приемлемый для общества. Фактически социальная опора обеспечивает легитимность политической системы, поскольку благодаря ей возможно нормальное взаимодействие власти и населения страны.
Патриотическое предпринимательство и социальная опора российской власти . Приведенные выше рассуждения и примеры в целом показывают, что чем шире социальная опора, тем устойчивее политическая система. Очевидно, что отечественные предприниматели являются важной частью социальной опоры российского политического режима, делают его устойчивее. К тому же российская экономика носит рыночный характер. Такое положение окончательно установилось после развала СССР, но при этом сохранился ее социально ориентированный характер. Данные положения определены и закреплены в Конституции РФ (ст. 7, 8, 34)1.
На конец мая 2024 г. в России зарегистрировано 6,56 млн малых и средних предприятий и 10,2 млн самозанятых2. По состоянию на март 2022 г. общее число юридических лиц и индивидуальных предпринимателей составило 6 885 4423. Иначе говоря, число отечественных бизнесменов разного уровня исчисляется миллионами. Более того, в 2020 г. 57 % общего финансового благосостояния страны принадлежало 1 % богатейших россиян, а в 2021 г. 62 % финансовых активов россиян было сосредоточено у сверхбогатых и обеспеченных (57,2 тыс. человек), из которых 40 % ‒ у 0,5 тыс. человек4.
Крупные предприниматели – богатейшие люди России. Поддержка предпринимательства осуществляется как на законодательном уровне5, так и на уровне заявлений руководства РФ6. После внесения поправок в Конституцию РФ появился пункт о поддержке бизнеса Правительством РФ (ст. 114 п. е3)7. Кроме того, предприниматели объединены в ряд бизнес-ассоциаций («Опора России», «Российский союз промышленников и предпринимателей» (РСПП), «Деловая Россия» и т. д.), способных лоббировать интересы предпринимателей различных отраслей и размеров бизнеса.
Таким образом, в Российском государстве созданы социальные институты, которые обеспечивают взаимодействие предпринимательства, государства и общества. Иначе говоря, предприниматели в России признаны и поддерживаются экономически, социально, политически, юридически. Предприниматели – крупная, влиятельная и самая обеспеченная группа страны и, следовательно, они способны оказывать влияние на политику государства. В этой связи для отечественного политического режима важно поддерживать бизнес, чтобы обеспечить собственную устойчивость.
За период 1992–2022 гг. отношения государства и бизнеса претерпели значительные изменения. По мнению ряда исследователей (Бунин, Макарин, 2015; Гришаков, 2012; Сайбель, Каширская, 2017), изменение отношений государства и бизнеса произошло в начале 2000-х гг. (к 2005 г.). Действительно, с ними можно согласиться, поскольку это время «Первого дела Ходорковского»1, «равноудаления» олигархов от власти2 (Ефременко, 2018), введения режима «законности» в экономике (Колотилин, 2013). Эти события ознаменовали окончание периода в истории отечественной политики, когда крупные бизнесмены могли оказывать значительное влияние на внутреннюю и внешнюю политику страны. Период огромного влияния олигархов на экономику получил метафорическое наименование «семибанкирщина»3 (Хасбулатова, Газанова, Аликеримова, 2019).
После окончания периода «семибанкирщины» российские власти вернули себе определяющее влияние на внутреннюю и внешнюю политику. В 1990-х гг. было много примеров бизнеса откровенно криминального характера, который не контролировался государством в правовом и экономическом поле, не являлся социально ответственным. Можно с уверенностью сказать, что такой бизнес не может являться частью социальной опоры устойчивого политического режима, потому что он стремится самостоятельно устанавливать политический режим, манипулировать им, игнорируя при этом интересы остальной части населения страны. Естественно, когда к концу 1990-х гг. социально-экономическое положение в стране значительно ухудшилось, остальная часть населения стала проявлять недовольство (устраивать различные акции протеста, забастовки и т. д.).
В 2000-е гг. также изменился характер работы бизнес-ассоциаций, что показывает качественные отличия во взаимодействии государства и бизнеса в 1990-е и 2000-е гг. А.А. Яковлев и А.В. Говорун отметили по этому поводу: «В целом в 1990-е годы российские бизнес-ассоциации характеризует слабая организация и высокая политизированность деятельности. При этом реальное влияние предпринимательских объединений на решения, принимаемые в сфере экономической политики, оставалось крайне ограниченным; крупные предприятия предпочитали напрямую взаимодействовать с правительством, что в литературе рассматривалось как проявление “захвата государства”. Ситуация изменилась после 2000 г. Уходя от личных контактов с ведущими предпринимателями, характерных для 1990-х гг., правительство В.В. Путина стало ориентироваться на создание системы консультаций с представителями разных слоев бизнеса через “головные” бизнес-ассоциации» (Яковлев, Говорун, 2011: 100). По сути, одним из инструментов «равноудаления» олигархов от власти была организация качественного функционирования институциональной среды взаимодействия государства и бизнеса взамен личных контактов.
Таким образом, с целью организации качественного функционирования институтов взаимодействия между государством и бизнесом в 2000‒2022 гг. были предприняты в т. ч. следующие меры: часть недобросовестных крупных предпринимателей была вытеснена с руководящих постов предприятий; нарушившие закон получили реальные тюремные сроки; взаимодействие бизнеса и власти потеряло личный характер и стало институциональным (через бизнес-ассоциации). Кроме того, государство оказывает поддержку предпринимателям, что закреплено в Конституции РФ. Взаимодействие власти и бизнеса стало носить исключительно экономический характер, перестав быть политизированным.
Президент РФ В.В. Путин с середины 2000-х гг. не раз подчеркивал, что отечественный бизнес должен работать в российской юрисдикции и не выводить деньги за рубеж4. Как верно указывает президент, хранение финансовых ресурсов российскими бизнесменами на территории России позволит избежать их изъятия другими государствами. Также отметим, что хранение финансовых ресурсов в российской юрисдикции делает бизнесменов более подконтрольными действующему в
РФ законодательству и политическому режиму. Но опять же, выбор юрисдикции – личное дело бизнесменов. В любом случае, все юрисдикции имеют свои риски.
Как показывает политическая история, с 2000-х гг. более значимыми оказались риски зарубежных юрисдикций. 2008, 2014, 2022 гг. ознаменовались введением персональных санкций в отношении российских бизнесменов и большими трудностями в использовании ими финансовых и материальных ресурсов1, ряд крупных бизнесменов из-за подобного рода проблем отказался от российского гражданства2. С целью облегчения возвращения капиталов в страну неоднократно проводилась «амнистия капиталов»3. Изначальное ведение бизнеса в российской юрисдикции позволило бы избежать им подобных проблем, но выбор ими нероссийской юрисдикции, по-видимому, отвечал бизнес-интересам крупных предпринимателей.
Настоятельное предложение предпринимателям президента РФ В.В. Путина вести бизнес в российской юрисдикции и вкладываться в отечественную экономику под угрозой возможных (в настоящее время реальных) санкций стран Запада фактически соответствует определению бизнес-патриотизма, представленного в работах В.В. Измалковой (2017) и Е.А. Понимаскиной (2016; 2017). По их мнению, бизнес-патриотизм в первую очередь связан с ориентацией на внутренний рынок и импортозамещение, возвратом капиталов в страну, протекционизмом, формированием патриотического мышления у предпринимателей.
Думается, что в контексте патриотического предпринимательства, прежде всего, целесообразно говорить о выборе российской юрисдикции. В таком случае ориентация на внутренний рынок и импортозамещение стали бы для них экономической необходимостью (даже если бы до этого они вели бизнес в том числе и в других странах) как способ сохранить и приумножить капиталы, например, выведенные из оборота в зарубежном бизнесе или возвращенные в Россию по программе амнистии капиталов. Тогда патриотическое мышление стало бы результатом не только личного выбора, личных ценностей, но и следствием бизнес-интересов. Однако для этого от государства требуется поддержка бизнеса и протекционистская политика. При данных условиях выводы исследователей В.В. Измалковой и Е.А. Понимаскиной представляются вполне логичными.
Итак, с 2000-х гг. политика государства в отношении предпринимателей изменилась. Взаимодействие государства и бизнеса приобрело систематический, институциональный характер. Были организованы меры поддержки бизнеса. Олигархи утратили контроль над политикой, часть из них получила реальные сроки лишения свободы или потеряла контроль над крупными предприятиями. Вместе с тем начали возникать вполне конкретные мягкие требования государства: ведение бизнеса в российской юрисдикции (под угрозой западных санкций), патриотическое мышление (действовать не только в своих эгоистических интересах, но и в интересах страны и ее населения, т. е. проявлять социальную ответственность). Таким образом, в России в той или иной степени было сформировано патриотическое предпринимательство.
Патриотическое предпринимательство, в отличие от олигархата 1990-х гг., может являться частью социальной опоры российской власти. Ибо патриотическое предпринимательство связано с отечественным политическим режимом не только институционально, но и общностью экономических (экономическое развитие России), социальных (социальная ответственность), политических и юридических (патриотическому предпринимательству выгоден политический режим экономически и юридически поддерживающий бизнес, а властям выгодны лояльные им бизнесмены) интересов, а также патриотическим мышлением.
Заключение . Наличие социальной опоры является одним из важнейших факторов устойчивого функционирования политического режима и политической системы. Без социальной опоры власть теряет легитимность и вскоре перестает быть властью, на что однозначно указывает политическая история. После развала СССР российские власти испытывали трудности с социальной опорой. Олигархи в 1990-е гг. претендовали на самостоятельное определение внешней и внутренней политики страны, манипулировали властью и не учитывали интересы населения (не было социальной ответственности в полной мере ее современного понимания, некоторые бизнесы 90-х гг. могли иметь иногда даже криминальные оттенки). Олигархи («семибанкирщина») в этой связи не могли являться частью социальной опоры власти.
Для придания устойчивого политического характера была необходима надежная социальная опора. По этой причине в 2000-е гг. произошла трансформация взаимодействия между властью и бизнесом, был взят курс на формирование патриотического предпринимательства (бизнесменов с патриотическим мышлением и предпочитающих российскую юрисдикцию иностранной), который продолжается и в настоящее время. В силу особенностей своих экономических, социальных, политических, правовых интересов и их реализации патриотические предприятия являются частью социальной опоры современного российского политического режима.
Список литературы Развитие отечественного патриотического предпринимательства и вопрос социальной опоры власти в постсоветской и современной России
- Бунин И.М., Макарин А.В. Россия: государство и бизнес // Russie. Nei. Visions. 2015. № 88. С. 4‒23.
- Гришаков А.В. Власть и бизнес в Российской Федерации: анализ взаимодействия // Социально-экономические явления и процессы. 2012. № 11 (45). С. 82‒87.
- Ефременко Д.В. Олигархомания в постсоветской России: ретроспективный взгляд // Россия и мусульманский мир. 2018. № 2 (308). С. 5‒15.
- Жаров С.Н. Социальная опора правительства России перед Февральской революцией глазами жандармов // Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Право. 2006. № 13. С. 74‒76.
- Зорин Н.С., Петров М.В. Правительство А.В. Колчака и аграрный вопрос // Ключевские чтения ‒ 2022. Россия выбирает путь: cборник трудов Международной научной конференции молодых ученых. М., 2022. С. 263‒267.
- Измалкова В.В. Бизнес-патриотизм: веяние моды или огромный шаг в развитие отечественного предпринимательства // Актуальные вопросы современной науки: сборник статей по материалам VIII международной научно-практической конференции: в 4 ч. Томск, 2017. Ч. 3. C. 131‒136.
- Колотилин А.В. Законность как неотъемлемое условие стабильного развития российской экономики (по материалам выступлений Президента Российской Федерации В.В. Путина) // Научный журнал НИУ ИТМО. Серия: Экономика и экологический менеджмент. 2013. № 2 (13). [Без пагинации].
- Курбангалиева А.О. Социальная опора сталинского режима // Фундаментальные научные исследования как фактор обеспечения конкурентоспособности общества и государства: сборник научных трудов по материалам Международной научно-практической конференции. Белгород, 2020. С. 44‒50.
- Понимаскина Е.А. Сущность бизнес-патриотизма как современного направления предпринимательства // Вестник науки и творчества. 2016. № 12 (12). С. 170‒174.
- Понимаскина Е.А. Бизнес-патриотизм. Сущность и основные проблемы // Международный молодежный симпозиум по управлению, экономике и финансам: сборник научных статей. Казань, 2017. С. 112‒115.
- Сагомонян А.А. «Испанский крест» Наполеона // Вестник МГЛУ. Гуманитарные науки. 2014. № 24 (710). С. 616‒624.
- Сайбель Н.Ю., Каширская О.О. Особенности взаимодействия бизнеса и власти в условиях кризиса в России // Молодой ученый. 2017. № 2 (136). С. 496‒500.
- Федоров А.Н. Реальная опора советской власти: социально-демографические характеристики городского населения России в 1917‒1920 годах (на материалах Центрального промышленного района) // Журнал исследований социальной политики. 2010. Т. 8, № 1. С. 69‒86.
- Хасбулатова З.М., Газанова А.И., Аликеримова Т.Д. «Семибанкирщина» 90-х годов в России // Модели и методы повышения эффективности инновационных исследований: сборник статей Международной научно-практической конференции: в 3 ч. Уфа, 2019. Ч. 1. С. 187‒191.
- Яковлев А.А., Говорун А.В. Бизнес-ассоциации как инструмент взаимодействия между правительством и предпринимателями: результаты эмпирического анализа // Журнал Новой экономической ассоциации. 2011. № 9. С. 98‒127.