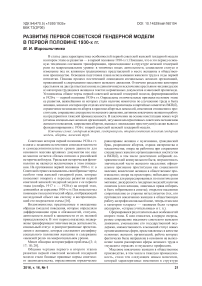Развитие первой советской гендерной модели в первой половине 1930-х гг.
Автор: Мирошниченко Мария Ильинична
Рубрика: Исторические науки
Статья в выпуске: 1 т.16, 2016 года.
Бесплатный доступ
В статье дана характеристика особенностей первой советской женской гендерной модели на втором этапе ее развития - в первой половине 1930-х гг. Показано, что в это период основную тенденцию составили трансформации, происходившие в структуре женской гендерной роли на макросоциальном уровне: в типичных видах деятельности, социальном статусе и изменение под их влиянием традиционных представлений о месте женщины в общественном производстве. Освещена подготовка плана использования женского труда в годы первой пятилетки. Показан процесс постепенной ликвидации специальных женских организаций, приводивший к свертыванию массового женского движения. Отмечено разделение категории крестьянок на две группы (колхозниц и единоличниц) и исключение крестьянок-индивидуалок из категории трудящихся женщин в текстах нормативных документов и массовой пропаганде. Установлены общие черты первой советской женской гендерной модели, формировавшейся в 1920-е - первой половине 1930-х гг. Определены отличительные признаки на новом этапе ее развития, важнейшими из которых стали наличие комитетов по улучшению труда и быта женщин, женских секторов при отделах агитации и пропаганды в партийных комитетах ВКП(б), ограничение возможности аборта в практике абортных комиссий, изменения отношения к проституции, сокращение дискурсности женского движения, активное вовлечение женщин в работу на предприятиях тяжелой промышленности. В заключении на основе констатации новых черт (отмены специальных женских организаций, затухания альтернативных советским механизмов женского поведения, запрещения абортов, вывода о ликвидации проституции) сделан вывод о функционировании с 1936 г. второй советской женской гендерной модели.
Гендерная история, гендерная роль, вторая советская женская гендерная модель, аборты, женский труд
Короткий адрес: https://sciup.org/147151074
IDR: 147151074 | УДК: 94(470.5) | DOI: 10.14529/ssh160104
Текст научной статьи Развитие первой советской гендерной модели в первой половине 1930-х гг.
Советская история первой половины 1930-х гг. в связи с недавним истечением семидесятилетнего и семидесятипятилетнего сроков давности для основного массива архивных документов все еще во многом остается «белым пятном» в российской исторической науке. Уральская историческая феми-нология не является исключением в этом отношении. На протяжении первой половины 1930-х гг. в Советской стране складывались своеобразные черты особого типа женской гендерной роли, которые позволяют говорить о переходе развития первой советской женской гендерной модели с ее первого этапа (октябрь 1917 г. — 1920-е) на второй этап, длившийся до середины 1930-х гг. Под моделью мы понимаем гносеологический образ, отображающий исследуемый объект как систему и воспроизводящий его посредством схемы [16].
Видоизменились предписанные и ожидаемые образцы (модели) поведения, которые определяли дифференциацию прав и обязанностей, статусов, деятельности людей в зависимости от их половой принадлежности. В этот период оказались подвержены трансформации типичные виды деятельности, социальный статус и распространенные представления о женщине, которые составляют специфику социального положения женщины и содержание «женской роли» на макросоциальном уровне.
Менее обширна историография проблемы [3; 4; 17; 18; 20].
Общими чертами первого и второго этапов развития первой советской женской гендерной модели стали базовые правовые нормы советского законодательства, определившие юридическое равноправие женщин с мужчинами, гражданский брак, разрешение абортов, охрана материнства и младенчества; опора на работниц при сохранении специальных женских организационных институтов в ВКП(б), в том числе делегатских собраний; сохранение идей коммунального быта; неграмотность значительной части женского населения; официальное признание проституции как социального явления; вовлечение женщин в общественное производство; опора на пролетарок; небольшие сроки наказания для репрессированных по политическим мотивам; дискурсность гендерных моделей; наличие лишенок (слоя женщин, лишенных права избирать и быть избранными в советы); открытое пассивное сопротивление со стороны интеллигенток (тех, кто противился вовлечению женщин в общественную работу на профессиональной ниве, теперь относили к категории «старых» — таковыми были «старые акушерки», «старые учительницы» и т. п.).
Сформировался ряд отличительных особенностей второго этапа. К ним относятся, в первую очередь, резкое сокращение массового советского женского движения, уменьшение его государственной поддержки, множественность и меньший статус новых организационных форм, представляемых в качестве основных женских организаций, работа которых фактически была направлена в основном на выполнение задачи расширения сферы женского труда в «мужских» отраслях и «мужских» профессиях.
Массовое вовлечение женщин в общественное производство, в том числе в тяжелую промышленность, стало тем следующим новым моментом, который характеризовал изменения в структуре деятельности предлагаемой для женщин новой гендерной роли. По оценкам П. М. Чиркова, до 1930 г. главной задачей в области вовлечения женщин в общественное производство было не столько расширение женского труда, сколько сохранение численности работниц в борьбе с женской безработицей. В 1920-е гг., несмотря на некоторое увеличение численности работниц, удельный вес женщин среди рабочих крупной промышленности оставался стабильным (в 1923 г. — 30%, в 1928 г. — 29%) [20, с. 120]. В 1930 г. на крупных предприятиях Госпланом были созданы бригады по вопросам женского труда, призванные определить, в каких профессиях и в каком количестве было целесообразно применение женского труда. Комитеты (комиссии, секции) по улучшению труда и быта женщин, созданные в СССР тоже в 1930 г. с основной задачей вовлечения женщин в общественное производство, также изучали вопросы женского труда. В условиях нехватки рабочих рук в ходе индустриализации и постоянной внешней угрозы была выдвинута задача подготовки женщин для замены мужчин на производстве на случай войны. По итогам работы вышеупомянутых бригад и комитетов Госпланом был разработан пятилетний план вовлечения женщин в общественное производство. В 1931 г. впервые в годовых контрольных цифрах появилось задание по внедрению женского труда. Каждому предприятию один раз в квартал органы Народного комиссариата труда (НКТ) открывали лимит на рабочую силу, которым лимитировалась и контрольная цифра по женскому труду. Организации, отказывавшиеся принимать на работу женщин, снимались со снабжения. Секция по женскому труду в структуре НКТ СССР, инструкторы для организации вовлечения женщин в производство в подразделениях НКТ, ответственные исполнители по внедрению женского труда на предприятиях — все это было направлено на достижение поставленной цели [20, с. 121—122]. В 1932 г. работа комитетов по улучшению труда и быта работниц и крестьянок была признана нецелесообразной, однако были организованы секторы по работе среди женщин в составе агитационнопропагандистских отделов партийных комитетов. Вопрос о практических задачах и формах работы Советов среди женщин, в том числе и националок, переносился в разряд обсуждаемых [9]. Изменился характер выдвиженчества. Женщины больше стали выдвигаться на руководящие должности на производстве (мастером, бригадиром) и в «мужские» профессии (в слесари, токари, монтеры, фрезеровщики, сварщики, крановщики и т. п.).
Произошло незаметное смещение опоры с красноармеек на красных партизан (среди которых насчитывалось мизерное количество женщин); разделение крестьянок на крестьянок-колхозниц и крестьянок-индивидуалок и исключение крестьянок-единоличниц из числа трудящихся женщин в контекстах различных документов, обращенных к женщинам [14].
Продолжалась политика охраны материнства и младенчества. С января 1932 г. лицам, получавшим пенсионное обеспечение от органов социального обеспечения по нормам, установленным для лиц, не имеющих сельского хозяйства (за исключением персональных пенсионеров и лиц, получавших академическую пенсию или обеспечение на себя или члена своей семьи), стали выдаваться дополнительные пособия на предметы ухода за новорожденным (единовременные; в размере месячного оклада пенсий инвалидам гражданской или империалистической войны I группы) и на кормление ребенка (в течение девяти месяцев со дня начала кормления ребенка в размере ¼ месячного оклада пенсий инвалидам гражданской или империалистической войн I группы) [6]. Противоречия, проявившиеся между декларацией охраны материнства и младенчества и реалиями жизни, выражались в том, что стрессы при проведении насильственной коллективизации приводили к прерыванию беременностей и мертворождениям. Усилилось внимание к регистрации новорожденных. Не позднее 1 месяца после рождения ребенка его следовало зарегистрировать: в городах и рабочих поселках — в органах записей актов гражданского состояния (в крупных городах — в соответствующих органах районных советов), в сельской местности заявление о рождении подавалось секретарю в сельсовет. При нарушении сроков регистрации накладывался штраф (10—25 руб.), для лиц, злостно уклонявшихся от регистрации родившихся, сумма штрафа достигала 100 руб. При указании в заявлении отцовства органы ЗАГСа извещали лицо, названное в заявлении отцом ребенка в тех случаях, когда у этих органов не имелось сведений о признании отцовства. Если со стороны указанного мужчины в течение месяца не поступало возражений, он признавался отцом ребенка, но имел право оспорить свое отцовство в суде в течение года. По постановлению ЦИК соответствующих АССР, краевых и областных исполкомов срок регистрации новорожденного мог быть продлен до трех, но не более, месяцев [11].
Упразднение женотделов, игравших большую роль в руководстве ясельным строительством, породило проблему поддержки женских инициатив в деле создания этих дошкольных детских организаций. Строительство яслей из поддерживаемых государством общественных инициатив переходит в регулируемое государством направление социальной политики. Из программы охвата жизни трудящихся женщин дошкольными детскими учреждениями в виде детских площадок, детских садов и яслей были исключены крестьянки-единоличницы [10]. В структуру базовых ценностей женского менталитета стала внедряться идея «правильного воспитания ребенка-дошкольника в семье» средствами «массовой педагогической пропаганды» [15]. С целью осуществления «правильного воспитания» подрастающего поколения в дальнейшем Уставом советской политехнической школы с осени 1933 г. в школах вводились должности групповодов в 5— 10-х классах (и в 3—4-х классах в тех случаях, когда в них велось предметное или цикловое образование) и (в школах с числом учащихся свыше 300 чел.) педагогов, ведущих внешкольную работу [14]. Провозглашалось не только бесплатность обучения и совместность обучения детей обоего пола, но и задачи антирелигиозного воспитания, организации всей учебной и воспитательной работы по программам и учебным планам, установленным Наркомпросом РСФСР и на основе типового учебного расписания. Преподавание в советской политехнической школе любого вероучения, исполнение обрядов культа и всяких иных форм религиозного воздействия на подрастающее поколение запрещалось и преследовалось в уголовном порядке (р. I, п. 13) [14]. В 1931—1932 гг. по отдельным городам и областям СССР стало осуществляться обязательное обучение в объеме семилетки, провозглашалось, что станет обязательным в ближайшее время посещение школы всеми девочками до 15 лет. В условиях унификации школьного образования воспитание своих детей в каком-либо религиозном духе через легальные учебные заведения становилось невозможным.
Задачи активизации женской деятельности сохранили первоочередную актуальность в северных районах. По Положению о кочевых советах, которые организовывались в национальных округах и районах северных окраин РСФСР при наличии не менее 200 жителей (р. III, п. 25), деятельность по вовлечению в работу женщин вводилась в предмет их ведения (р. II, п. 7а). По Уральскому краю к территориям Крайнего Севера относились Ямальский и Остяко-Вогульский округа. Рождение, брак, смерть и другие акты гражданского состояния, за исключением смены фамилии, регистрировались кочевыми советами (р. II, п. 22) [13].
Изменилось отношение к проституции, которая стала считаться формой паразитизма и тунеядства. Постановлением ЦИК и СНК СССР от 7 апреля 1935 г. «О мерах борьбы с преступностью несовершеннолетних» [7] вводилась норма об уголовной ответственности взрослых за вовлечение несовершеннолетних в преступную и антиобщественную деятельность (одним из видов антиобщественной деятельности было отнесено и занятие проституцией) [1, с. 216]. Вопрос о полной ликвидации проституции не был снят с повестки дня, но перешел в иную плоскость.
Проведение коллективизации, введение паспортной системы в 1932 г. (которая не распространялась на жителей сельской местности), унификация школьной политики, — все это приводило к усилению государственного контроля за поведением населением. В этих условиях происходило свертывание (вплоть до исчезновения) относительно свободно функционировавших ранее различных гендерных моделей (старообрядческих, мусульманских, менно-нитских, толстовских и др.). В условиях продолжавшегося закрытия и разрушения храмов, монастырей наблюдалось прекращение женского православного движения в форме сестричеств (на Урале сестричества перестали существовать в 1930 г.). В этом проявлялась тенденция к унификации гендерной модели, отражавшая тенденцию формирования тоталитарного политического режима.
В рамках «свертывания» нэпа и распространения новой («красной») обрядности размывались традиционные общественные механизмы формирования сексуальности. Выявилась тенденция к сокращению свободы аборта посредством усиления ограничительной функции абортных комиссий. Произошло изменение визуального образа женщины: прежний маскулинный тип сменился феминным. Возрождалась пропаганда семейных ценностей. Возросла грамотность женщин. Происходило включение общественной работы в профессиональные обязанности. При приобретении некоторыми профессиями (например, профессией учителя) характера женских профессий это порождало усиление загруженности женщин. Сократились по сравнению с периодом 1920-х гг. социальные лифты для женщин. Так, к примеру, на должность заведующих средней школой (второй и третьей ступеней) с 1933 г. принимались только лица с высшим педагогическим образованием [14].
Усилилась работа по военизации женщин, она приобретала массовость и дополнилась новыми формами. Женщины вовлекались в работу стрелковых кружков, с 1932 г. проходившую под общим для представителей обоих полов лозунгом «Стреляй по-ворошиловски!», включались в борьбу за получение звания «Ворошиловский стрелок». По-прежнему привлекались к деятельности различных оборонноспортивных обществ, особенно Осоавиахима, к получению первичных навыков санитарной работы (сначала через РОКК — Российское общество Красного Креста, а с 1934 г. через комплекс «ГСО» — «Готов к санитарной обороне»), к физкультурному движению. С 1931 г. они участвовали в движениях за сдачу норм ГТО («Готов к труду и обороне»), движении лыжников, парашютистов. В 1935 г. на Урале девушками был выдвинут лозунг «Половину парашютистов должны составлять женщины!» [19].
Претерпели корректировку идеи насаждения коммунального быта. Развивалась сеть общественного питания (в виде столовых, фабрик-кухонь), общественных прачечных, общественных бань, общественных мастерских по ремонту одежды и обуви. Приметой времени стало расширение в первое полугодие 1932 г. при приемно-сдаточных пунктах скупки старой одежды и обуви, ее реставрации и реализации [8].
Содержание проводимой Советским государством с 1936 г. политики в женском вопросе позволяет сделать вывод о складывании со второй половины 1930-х гг. второй советской женской гендерной модели. Отсутствие широкого массового женского движения под эгидой ВКП(б) и массовых специальных женских организаций в структуре партии большевиков стали первой ее отличительной чертой. Статья 122 Конституции СССР 1936 г. представляла женщине в СССР равные права с мужчиной во всех областях хозяйственной, государственной, культурной и общественно-политической жизни. Возможность осуществления этих прав обеспечивалась представлениями женщине равного с мужчиной права на труд, оплату труда, отдых, социальное страхование и образование, государственной охраной интересов матери и ребенка, предоставлением женщине при беременности отпусков с сохранением содержания, широкой сетью родильных домов, детских яслей и садов. В ст. 137 гл. IX «Избирательная система» утверждалось, что женщины (без учета социального происхождения, имущественного положения и прошлой деятельности) пользуются правом избирать и быть избранными наравне с мужчинами [4]. Советская практика по-прежнему рождала многочисленные и уникальные женские инициативы (движение жен-общественниц с лета 1934 г., виноградовское движение многостаночниц с осени 1935 г., хетагуровское движение «Девушки — на Дальний Восток!» с 1937 г., движение за овладение мужскими профессиями и др.). Появились не только женщины-трактористки, но и машинисты разливочных кранов, сталевары, женщины-летчицы, снайперы, радистки, таксистки, минеры. Однако с опорой на селе на и крестьянок-колхозниц и совхозниц категория «крестьянок-единоличниц» с развитием коллективизации исчезла из состава социальной базы советской политики. Усилился государственный контроль над сферой частной жизни женщин, в том числе в 1936 г. были запрещены аборты. Ужесточился режим при содержании женщин в местах заключения; резко возросли сроки наказания. Женщины в числе всего советского населения подверглись репрессиям в ходе проводимой с 1936 г. кампании репрессий против людей с иностранными фамилиями в рамках борьбы с «врагами народа» и шпионажем, в 1937—1938 гг. в годы «Большого террора». Борьба с проституцией как с социальным злом, наследием капитализма, прекратилась, проститутки стали преследоваться как лица, занимавшиеся преступной деятельностью. В 1940 г. был сделан вывод о том, что проституция в СССР ликвидирована [2, ст. 335].
Таким образом, если конструируемая советской властью социальная роль женщины в 1920-е гг. была в основном ориентирована на активное участие в общественной работе и вовлечение женщин в сферу общественно-полезного труда, то с 1930—1931 гг. главным стало вовлечение женщин в крупную, в первую очередь, тяжелую промышленность; активное участие в общественной работе, поскольку сложились уже определенные традиции, уходило на второй план; усиление контроля над всеми сферами жизни приводило к постепенному исчезновению с середины 1930-х гг. альтернативных советским механизмов женского поведения.
Список литературы Развитие первой советской гендерной модели в первой половине 1930-х гг.
- Арсеньева, М. И. Истоки половой деморализации молодежи/М. И. Арсеньева//Проституция и преступность (Проблемы, дискуссии, предложения). -М.: Юридическая литература, 1991. -С. 210-230.
- Горфин, Д. Проституция/Д. Горфин//Большая советская энциклопедия. -Т. 47. -М.: ОГИЗ, 1940. -Ст. 330-336.
- Гуполов, Ю. В. Формирование института советской семьи как объекта государственной политики: 1917-1940 (на материалах РСФСР): автореф. …дис. канд. ист наук/Ю. В. Гуполов. -М., 2012. -25 с.
- Конституция (Основной закон) Союза Советских Социалистических Республик (утверждена постановлением Чрезвычайного VIII Съезда Советов Союза Советских Социалистических Республик). -URL: http://constitution.garant.ru/history/ussr-rsfsr/1936/red_1936/3958676/chap ter/10/(дата обращения 14.07. 2014).
- Костенко Ю. А. Женское движение в России в 1920-1930-е гг.: дис. … канд. ист. наук/Ю. А. Костенко. -М., 2006. -339 с.
- О дополнительных пособиях лицам, получающим пенсионное обеспечение от органов социального обеспечения: постановление ВЦИК и СНК 10 декабря 1931 г.//Собрание узаконений и распоряжений рабоче-Крестьянского правительства РСФСР. -1932. -№ 1. Ст. 9.
- О мерах борьбы с преступностью несовершеннолетних: постановление ЦИК и СНК СССР 7 апреля 1935 г.//Собрание узаконений и распоряжений рабоче-Крестьянского правительства РСФСР. -1935. -№ 19. -Ст. 155.
- О ремонте обуви и одежды в городах и промышленных центрах: постановление ЭКОСО 15 марта 1932 г.//Собрание узаконений и распоряжений рабоче-Крестьянского правительства РСФСР. -1932. -№ 27. -Ст. 129.
- О реорганизации работы комитетов по улучшению труда и быта работниц и крестьянок: постановление ВЦИК 10 июля 1932 г.//Собрание узаконений и распоряжений рабоче-Крестьянского правительства РСФСР. -1932. -№ 61. -Ст. 271.
- О ясельном обслуживании детей в городах, промышленных центрах, совхозах, МТС и колхозах: постановление ВЦИК и СНК 20 сентября 1932 г.//Собрание узаконений и распоряжений рабоче-Крестьянского правительства РСФСР. -1932. -№ 78. -Ст. 345.
- Об изменении и дополнении инструкции Президиума ВЦИК о порядке регистрации актов рождения: постановление ВЦИК 1 июня 1933 г.//Собрание узаконений и распоряжений рабоче-Крестьянского правительства РСФСР. -1933. -№ 39. -Ст. 45.
- Об изменении Кодекса законов о браке, семье и опеке: постановление ВЦИК и СНК 20 июля 1933 г.//Собрание узаконений и распоряжений рабоче-Крестьянского правительства РСФСР. -1933. -№ 42. -Ст. 159.
- Об установлении территории, на которую распространяется действие постановления ВЦИК и СНК 10 мая 1932 г. о льготах для лиц, работающих на Крайнем Севере: постановление СНК 26 октября 1932 г.//Собрание узаконений и распоряжений рабоче-Крестьянского правительства РСФСР. -1932. -№ 91. -Ст. 406.
- Об утверждении устава советской политехнической школы: постановление СНК РСФСР 19 сентября 1933 г.//Собрание узаконений и распоряжений рабоче-Крестьянского правительства РСФСР. -1933. -№ 50. -Ст. 210.
- По докладу Наркомпроса о состоянии дошкольного воспитания в РСФСР: постановление ВЦИК 10 декабря 1932 г.//Собрание узаконений и распоряжений рабоче-Крестьянского правительства РСФСР. -1932. -№ 91. -Ст. 408.
- Словарь по логике. -URL: http://logic.slovaronline.com/% D0%9C/%D0%9C%D0%9E/204-MODEL (дата обращения 15.10.2014).
- Сытник, И. Г. Женский вопрос в политике государства и его решение на Южном Урале: 1918-1930 гг.: дис. …канд. ист. наук/И. Г. Сытник. -Оренбург: ОГУ, 2006. -194 с.
- Харитонова, С. Б. Политический и социально-экономический статус женщин: 1917 -июнь 1941 (На материалах Чувашии): автореф. дис.... канд. ист. наук/С. Б. Харитонова. -Чебоксары, 2005. -23 с.
- Центр документации общественных организаций Свердловской области. Ф. 4. Оп. 13. Д. 527. Л. 58-59.
- Чирков П. М. Решение женского вопроса в СССР (1917-1937 гг.): автореф. дис. …докт. ист. наук/П. М. Чирков. -М., 1980. -35 с.