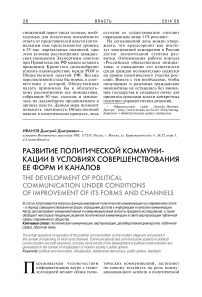Развитие политической коммуникации в условиях совершенствования ее форм и каналов
Автор: Иванов Дмитрий Дмитриевич
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Коммуникации и общество
Статья в выпуске: 6, 2014 года.
Бесплатный доступ
В статье затрагиваются вопросы функционирования политической коммуникации на современном этапе - в период совершенствования ее форм, упрощения доступа к информации и каналам коммуникации. Автор рассматривает коммуникативный и коммуникационный аспекты предмета исследования, а также обобщает некоторые тенденции развития политической коммуникации в свете виртуализации публичной сферы современного общества.
Политическая коммуникация, виртуализация, делиберативная демократия, публичная сфера, обратная связь
Короткий адрес: https://sciup.org/170167503
IDR: 170167503
Текст научной статьи Развитие политической коммуникации в условиях совершенствования ее форм и каналов
ереживаемая человечеством тических коммуникаций, заставляет информатизация вкупе с техно- по-новому взглянуть на роль комму-логизацией меняет облик поли- никационного аспекта в политической
жизни общества. Происшедший в конце XX – начале XXI в. скачок в развитии информационно-коммуникационных технологий предопределил состояние современной эпохи как переход к информационному обществу, описываемый в рамках теорий Э. Тоффлера и характеризующийся все возрастающей ролью информации в социуме.
Прорыв в информационнокоммуникационной среде приводит к стиранию жестких государственных границ в этой сфере, что способствует развитию пространственного восприятия. Т.Ю. Чеснокова говорит о размывании традиционных государственных структур в связи с глобализационными процессами в общественно-политической жизни и области информационного взаимодействия [Чеснокова 2008: 89]. Следовательно, под влиянием перемен в XX–XXI вв. перед коммуникационным пространством ставятся новые задачи.
По мнению Д. Вольтона, задачи, стоявшие перед сферой информации и коммуникации в XIX–XX вв., отличаются от тех, которые становятся актуальными в XXI в. Раньше основной проблемой виделось создание условий для свободы коммуникации и преодоления пространственно-временного предела передачи информации, и решению этой задачи способствует технический прогресс. Данный факт подтверждает и высказывание Н. Лумана о том, что «государственные образования, которые формировались в ходе роста возможностей коммуникации, вплоть до начала Нового времени сталкивались с проблемой того, как обеспечить господство над более значительной территорией из единого центра, то есть контролировать ее посредством коммуникации» [Луман 2004: 158].
Теперь же главный вызов состоит в том, чтобы организовать мирное сосуществование противоречащих точек зрения. Как подчеркивает Вольтон, речь идет не о полном совпадении мнений людей или их групп, а именно о сосуществовании [Вольтон 2011: 30]. Таким образом, очевидную ключевую роль здесь играет вопрос согласия и несогласия с коммуникативной точки зрения.
В то же время признается и тот факт, что современные технологии в настоящее время создают предпосылки для виртуализации, поскольку достигли колоссального прогресса в построении так называемой виртуальной реальности. Г. Бехманн подчеркивает, что развитие технических средств обусловило возможность интеграции информации в политическое и иное социальное действие, тогда как раньше она лишь сохранялась, пересылалась и обрабатывалась. Эту «возможность непосредственного взаимодействия с символическими структурами» Г. Бехманн и называет виртуализацией [Бехманн 2010: 123].
В настоящее время зачастую происходит перенос коммуникационных процессов из реальной среды в виртуальную. В этом плане мы наблюдаем дихотомию двух сторон развития политических коммуникаций – технологической, связанной с применением различных каналов передачи сообщений, и смысловой, субъективно направляемой политическими акторами, которые ведут коммуникационный процесс.
На фоне информатизации и развития технологий постепенно видоизменяется форма политических коммуникаций, не оставляя без изменений и их содержание. В связи с этим представляется возможным выделить два аспекта, соответствующих основным компонентам акта политической коммуникации, – коммуникативный и коммуникационный. Коммуникативный аспект отражает внутреннее содержание – смыслы и идеи, главенствующие в сообщении, а коммуникационный относится к техническим характеристикам или форме, в которой преподносится коммуникационный акт.
Очевидно, что коммуникативный аспект оказывается непосредственно связанным с коммуникационным. В частности, неотъемлемой частью коммуникации является формируемый субъектами политических отношений политический дискурс, который развивается в виртуальной реальности, созданной субъектами политических отношений через каналы связи. Благодаря огромному интерактивному потенциалу Интернета, в данную виртуальную среду постепенно переходит диалог власти и общества. Создаваемые в разных странах мира институты «электронного правительства» служат примером того, как бюрократическая функция власти облекается в ту форму, которая предполагает дальнейшую информатизацию социума.
Затрагивая тему технологического прорыва XX–XXI вв. и влияния его на коммуникационное развитие политической системы, нельзя обойти вниманием такой ее контекст, как функционирование сетевой коммуникации и то, что принято называть политическими сетями. В наше время общественное коммуникативное пространство эксплицитно обнаруживает в себе признаки сетевой организации, которая все теснее связывает внутри себя общественные институты и процессы. Таким образом, развитие каналов коммуникации, все теснее связывая между собой акторов политического процесса, делает все более актуальными направления исследований, в центре внимания которых оказывается понятие политических сетей. По мнению А.П. Кочеткова, «ведущей тенденцией организации общества постепенно становится информационно-сетевой принцип». Согласно данному принципу основной социальной ячейкой является сеть, иными словами, «некое объединение граждан, близких по духу и интересам» [Кочетков 2011: 11]. Действительно, современные сетевые технологии предоставляют широкие возможности для объединения индивидов в сети. Исследователь приводит также мнение У. Мартина, который говорит о том, что «свобода распространения и получения информации способствует значительному росту участия граждан в политическом процессе и достижению консенсуса между различными социальными группами и слоями населения» [Martin 1988: 14-15], что также способствует развитию политического сетевого потенциала. Далее, по А.П. Кочеткову, общество будет представлять собой «систему сетевых структур», при этом политические элиты и правящий класс в данном обществе будет составлять «новая социальная группа – нетократия» [Кочетков 2011: 9], которая будет сформирована из транснациональных корпораций, курирующих все сети.
А. Бард и Я. Зодерквист отмечают, что вслед за нетократией как новым правящим классом можно предвидеть появление низшего класса – консьюме-тариата как основы общества потребле- ния [Бард, Зодерквист 2004: 7]. В случае нетократии необходимо выделить ее правящие функции – управление средствами коммуникации и модерирование информационных потоков. При этом в случае объединения данных функций в одних руках политические риски будут возрастать.
Обратим внимание на тенденции, в плоскости которых лежит современное развитие каналов передачи политической информации и деятельности акторов политической коммуникации. Технологии, ориентированные на массовую коммуникацию, становятся детерминантом уже нами упомянутой медиапредставительской системы. Дж. Лиллекер в числе основных характеристик медиацентрированной демократии называет дефицит непосредственной политической активности «с глазу на глаз», а также чрезвычайную важность работы специалистов в области public relations и медиаменеджмента [Лиллекер 2010: 154-155]. При этом, исходя из теории медиатизации, СМИ создают и формируют политический дискурс и общество, в котором он существует. Это происходит в т.ч. ввиду того, что медиатизация общества в современной реальности приводит к медиатизации политики. По мнению Дж. Лиллекера, отныне формирование имиджа политических деятелей имеет не меньшую важность, чем непосредственная передача политических сообщений. Ввиду приобретения политикой статуса медийных образов навыки и умение работы со СМИ становятся одними из основных факторов определения успешности среди избирателей в публичной политике. Данный процесс стало принято называть селебритиза-цией [Лиллекер 2010: 154-155].
В условиях прорыва технологий виртуальной реальности средства массовой коммуникации становятся основным прямым производителем образов, в т.ч. и симулякров, причем как в общественной сфере в целом, так и в политической жизни в частности. Ввиду тенденции к слиянию сферы политики и средств массовой коммуникации в наши дни PR-технологии и СМИ детерминируют образ политических процессов, т.е., по сути, определяют их внешнюю форму. В то же время при характерной для вир- туализации обратной связи, зачастую происходящей в современном обществе, у граждан складывается лишь иллюзия политического участия, тогда как с реальностью, т.е. непосредственно с процессом принятия решения, такой тип коммуникационного процесса ничего общего не имеет.
Наряду с другими образами, фигурирующими в новостных выпусках, аналитических программах на ТВ, статьях в сети Интернет, симулякры политических реалий играют свою роль в политической социализации реципиентов. Налицо реально существующий потенциал конвергенции концептов политических реалий как смысловых категорий, также допускающий манипуляцию умами широких масс.
Никлас Луман в свое время выдвинул концепцию реальности, конструируемой средствами массовой информации. Согласно Луману, члены конкретной социальной системы наследуют общую модель действительности с общими принципами ее восприятия. Конструируя собственную реальность, СМИ становятся посредниками в формировании отношения людей к реальному миру. Знания, полученные с помощью массмедиа, как бы сами собой складываются в замкнутый каркас, элементы которого прочно укрепляют друг друга, заменяя иные ценностные ориентиры. В теории Лумана СМИ формируют социальную память, избирательно фиксируя, о чем следует помнить, а что следует забыть. Память, созданная масс-медиа, является, по мнению немецкого социолога, основой коммуникации, которая образует вторую, «фоновую» реальность как триединство информации (содержания), сообщения (передачи содержания) и понимания.
Особую позицию по этому вопросу занимает М. Кастельс. Он называет виртуальностью систему, «в которой сама реальность полностью схвачена, полностью погружена в виртуальные образы, в выдуманный мир, мир, в котором внешние отображения находятся не просто на экране, через который передается опыт, но сами становятся опытом» [Castells 2000: 495]. При этом М. Кастельс предвидит снижение в политической среде значения традиционных СМИ во главе с телевидением с одновременным нарас- танием объема использования средств интернет-коммуникации. С появлением виртуальных сообществ, основанных на возможностях прямой коммуникации с помощью глобальных сетей, политические элиты получают возможность прямого обращения к электорату и оперативного принятия обратной связи. Кроме того, по мнению М. Кастельса, большие возможности дает виртуальной реальности сочетание новейших средств коммуникации с технологиями мультимедиа, поскольку «они охватывают в своей сфере большинство видов культурного выражения во всем их разнообразии». Исследователь утверждает, что такая ситуация потенциально приведет к размытию границ «между аудиовизуальными средствами и печатными средствами массовой информации, общедоступной и высокой культурой, развлечениями и информацией, образованием и пропагандой» [Castells 2000: 495].
На наш взгляд, при рассмотрении массовых политических коммуникаций в общем виде к ним стоит относить и интернет-коммуникации, поскольку современные технологии Веб 2.0 позволяют приобщить их к средствам массовой коммуникации (СМК). Благодаря своим свойствам и доступности они, как и традиционные СМИ, способны транслировать сообщения и информировать аудиторию и в дополнение к этому имеют в наличии потенциал непосредственной коммуникации между участниками сети. При этом массовость интернет-коммуникаций напрямую зависит от технологической доступности сетей в государствах, а также от упомянутого контроля над ними.
Происходящие в мире события последнего времени убеждают нас в том, что информатизация современного общества достигла того уровня, когда политическая активность масс и их культура оказываются зависимыми от эффективной коммуникации, касающейся в т.ч. вопросов осуществления власти. Здесь проявляется взаимосвязь между понятием политической коммуникации и гражданской культуры общества.
Как мы видим, политическая коммуникация как многоуровневая система обмена информацией в зависимости от точки зрения исследователя способна актуализировать различные аспекты своего функционирования. Так, представляется возможным допускать ее широкую трактовку в качестве некоего пространства, входящего в политическую систему и внутри которого происходит весь процесс коммуницирования политических акторов. В то же время политическая коммуникация может играть роль самостоятельного объекта политического процесса, используя который, его участники могут вести переговорный процесс, передавать сообщения, связываться друг с другом и т.д. Следовательно, исходя из изложенных выше особенностей ее развития в условиях современных тенденций совершенствования демократических институтов и информационных технологий, политическая коммуникация выступает как среда функционирования смыслов, сигналов, отношений между субъектами политического пространства, а также как инструмент, связывающий между собой субъекты политики и обеспечивающий передачу и выстраивание вышеупомянутых смыслов, сигналов, отношений.