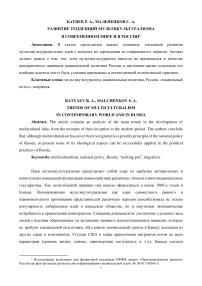Развитие тенденций мультикультурализма в современном мире и в России
Автор: Батяев Р.А., Мальченков С.А.
Журнал: Огарёв-online @ogarev-online
Статья в выпуске: 7 т.8, 2020 года.
Бесплатный доступ
В статье представлен анализ основных тенденций развития мультикультуралистских идей с момента их зарождения до современного периода. Авторы делают вывод о том, что, хотя мультикультурализм никогда не признавался в качестве приоритетного принципа национальной политики России, в настоящее время отдельные его идейные аспекты могут быть успешно применены в отечественной политической практике.
"плавильный котел", миграция, мультикультурализм, национальная политика, Россия
Короткий адрес: https://sciup.org/147249940
IDR: 147249940 | УДК: 323.1:316.7(470+571)
Текст научной статьи Развитие тенденций мультикультурализма в современном мире и в России
Идея мультикультурализма представляет собой одну из наиболее авторитетных и влиятельных концепций организации взаимодействия различных этносов в многонациональных государствах. Как политический принцип она начала оформляться в конце 1960-х годов в Канаде. Возникновению мультикультурализма как идеи совместного, равного и взаимовыгодного проживания представителей различных народов способствовала не только популярность либеральных идей в канадском обществе, но и ощутимые экономические потребности в привлечении иммигрантов. Снижение рождаемости, увеличение удельного веса людей с высшим образованием, не желающих занимать малооплачиваемые вакансии, которые не требуют специальной подготовки, обусловили значительный приток в Канаду выходцев из других стран и континентов. Уступая США в плане привлечения мигрантов почти по всем параметрам (уровень жизни, климат, транспортная доступность и т.д.), Канада сделала
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ, проект «Пространственное развитие России как фактор нациестроительства и формирования национальной идеи» № 18-011-00364 А.
своеобразную ставку на создание для вновь прибывших максимально комфортных условий культурного и языкового плана, которые резко отличались от традиционного для Америки «плавильного котла». В качестве государственной политики мультикультурализм окончательно утвердился в годы правления премьер-министра П. Э. Трюдо после включения его идейных основ в такой важнейший документ как Канадская хартия прав и свобод, которая образует первую часть Конституционного акта Канады 1982 года.
В 1970-80-е годы начинается и научное осмысление мультикультуралистских идей. Классическое определение было дано американским социологом Натаном Глейзером, который понимал под мультикультурализмом «комплекс разнообразных процессов развития, в ходе которых раскрываются многие культуры в противовес единой национальной культуре» [1, p. 137]. Нетрудно заметить, что в самом этом толковании мультикультурализм определяется как противоположность «плавильному котлу», характерному для США. Помимо Глейзера, заметный вклад в исследование мультикультурализма внесли такие зарубежные авторы как С. Бенхабиб, Б. Бэрри, С. Жижек, У. Кимлика, Ч. Кукатас, Т. Модуд, Р. Патнэм, Ч. Тэйлор и многие другие. В отечественной науке к проблеме мультикультурализма обращались А. В. Бузгалин, В. К. Антонова, Н. К. Гасанова, Н. С. Кирабаев, В. С. Котельников, А. И. Куропятник, В. С. Малахов, И. А. Мальковская, А. В. Попов, В. А. Тишков и другие.
Сегодня мультикультурализм представляет собой сосуществование различных народов и, что более важно, культур между собой без попыток подавления одной культуры другой. Преимущества данного подхода в том, что сохраняются языки, которые сопровождают эти народы на протяжении всей истории, их бытовые нормы и правила, а также моральнонравственные нормы, свойственные этим народам. В то же время сложно поспорить с тем, что при таких идейных основах из достоинств неизбежно вытекают недостатки.
В качестве наиболее сложной проблемы мультикультурного развития стоит назвать конфликты, вызванные тенденциями глобальной миграции. До определенного момента, когда стала происходить миграция из стран с менее развитой экономикой и инфраструктурой, люди могли взаимодействовать между собой преимущественно на уровне государств или краткосрочного туризма. Поэтому нравы другой страны не вызывали непонимания, а порой ярого неодобрения у людей с иным восприятием культурных норм. Сегодня же в эпоху постоянного совместного проживания представителей различных культур данная проблема становится как никогда острой.
Следует отметить, что проблема миграции из североафриканских и ближневосточных стран в значительной степени была спровоцирована внешней политикой стран Запада. Интервенции сил НАТО в Ирак, Афганистан, Сирию и Ливию, а также определенное содействие «Арабской весне» привели экономику практически всех этих стран к кризису, в 2
результате чего их граждане были вынуждены бежать в Европу. При этом свою роль в привлечении иностранцев сыграли и весьма располагающие условия: пособия по безработице, социальные гарантии и т.д.
Анализ современного положения дел показывает, что европейские страны, будучи приверженцами идей мультикультурализма, недостаточно активно стремятся интегрировать мигрантов в свое общество. Это связано с еще одной проблемой современного мультикультурализма – языковой. Вопрос о том, должны ли люди, переезжающие на постоянное место жительства в страну, знать ее язык, остается дискуссионным до сих пор. При этом вопрос о языке стоит остро не только в странах с прибывшими из-за рубежа людьми, но и, например, в Гонконге в силу исторических обстоятельств. Данная территория довольно долго контролировалась Великобританией, но сейчас находится под контролем Китайской Народной Республики. На территории Гонконга жители учат два языка, однако далеко не все специалисты, в том числе и лингвисты, относятся к этому положительно. Так, например, Эйнджел Лин, специализирующаяся на мультилингвистических исследованиях, пишет, что вопрос об изучении двух языков жителями Гонконга неоднозначен. В качестве негативного проявления она приводит уроки по различным предметам в школах, когда учителя несколько раз переключаются между языками, что приводит к искажению восприятия учениками [3, p. 56]. Схожим образом обстоит дело и в бывшей португальской территории Аомынь (Макао).
Лиз Джексон в свою очередь приводит примеры различных стран, которые по-разному решают проблему миграции и сосуществования народов. В Квебеке постепенно начинают обучать детей мигрантов на английском, в США обучение проводится только на данном языке, Франция, Гонконг, Япония также склоняются к необходимости изучения языка. А вот ЮАР, напротив, разрешает обучение на усмотрение ученика [2, p. 110]. Вопрос о знании языка и принятии культуры страны является одним из ключевых, хотя и не столь очевидных как бытовые проблемы разного восприятия повседневных явлений.
В качестве контраргумента о необходимости изучения языка новой страны приводится утверждение относительно внутреевропейской миграции. Мариан Харкин, к примеру, пишет о том, что если человек из Ирландии или Великобритании переедет в Германию, то он не будет нуждаться в изучении немецкого. При этом Клэри Фернандес считает, что для детей, изучающих немецкий язык вторым, существует различное отношение со стороны учителей и администраций школ в зависимости от происхождения (в основном, между детьми из других стран Запада и всего остального мира). Данный процесс определенно не способствует интеграции детей-мигрантов разных стран на равных условиях [4].
Проблемы мультикультурализма, разумеется, заключаются не только в этом. Наиболее остро стоит вопрос о том, что мигрантские общины зачастую являются питательной средой 3
для активизации деятельности террористических и экстремистских организаций. Можно вспомнить террористические акты во Франции, которые случились вследствие отсутствия взаимодействия умеренных мусульманских общин, а также на фоне провокаций журнала «Шарли Эбдо».
В последние годы очень активно обсуждается такая проблема как массовые домогательства мигрантов по отношению к европейским женщинам. Это связано во многом с различным восприятием культурных норм у европейцев и выходцев из Азии и Африки. Человек, приехавший с Ближнего Востока, видя девушку, одетую по-европейски, неверно интерпретирует ее намерения. В результате получается, что таким образом мигрантское сообщество пытается вносить свои правила на чужую территорию. В странах Европы проводится активная работа, включающая в себя как разъяснительную деятельность, так и привлечение к юридической ответственности, однако сложно опровергнуть тот факт, что проблема до сих пор далека от разрешения.
Вообще, положение женщин становится одним из наиболее заметных камней преткновения в процессе построения мультикультурализма. Традиционно в обществах Востока женщины занимают более низкое положение. Поэтому, приезжая в определенные азиатские страны, девушка, не являющаяся мусульманкой, также должна носить хиджаб. При этом в Европе отношение к этой проблеме неоднозначно. Во Франции запретили ношение хиджаба, а в Турции, напротив, разрешили после более чем девяностолетнего запрета [8]. В России сложилась уникальная ситуация: на территории нашей страны в школах существует запрет на религиозную одежду, а на территории Чеченской республики, наоборот, был подписан указ о допущении данной формы одежды в школах [5]. Противоречие между федеральным законодательством и законодательством субъекта федерации на данный момент не привело к осуждению со стороны других регионов, но в будущем, если в этом субъекте или любом другом будут появляться законы, которые идут вразрез с федеральными, противоречие может усилиться.
Возвращаясь к положению в Европе, можно резюмировать, что отсутствие интеграции коренного и приезжего населения приводит к реакции в виде появления ультраправых партий и увеличения числа их сторонников с каждым годом. Эти партии не рассматривают включение новоприбывших людей и их адаптацию, а предлагают ужесточить меры по въезду и решить вопрос с уже проживающими на территории данных стран граждан путем их депортации. Однако данный путь невозможен без столкновений, возмущений и может привести к новым террористическим актам.
В начале 2010-х годов под впечатлением от конфликтов, вызванных новым масштабным притоком беженцев, сразу несколько влиятельных политиков Германии, 4
Франции и Великобритании сделали заявления о провале политики мультикультурализма или, как минимум, о вступлении ее в кризисную стадию. Однако, на наш взгляд, в данных высказываниях речь шла, скорее, не об окончательном отказе от мультикультурализма как от принципа, а о необходимости противодействовать его негативным тенденциям.
Что касается применения идей мультикультурализма в современной России, то этот вопрос также едва ли может быть решен однозначно. С одной стороны, в официальногосударственном дискурсе в последние годы сложилась явно негативная коннотация: термин «мультикультурализм» однозначно ассоциируется с ценностями Европы и Запада в целом, которые воспринимаются враждебно особенно в свете противостояния, начавшегося в 2014 году. В частности, негативную оценку мультикультурализму дали постоянный представитель РФ при НАТО Д. О. Рогозин [7, с. 13] и председатель Конституционного суда РФ В. Д. Зорькин [6, с. 4]. В то же время при здравом размышлении можно прийти к выводу о том, что фактически на данный момент именно использование мультикультурализма (или, как минимум, отдельных его аспектов) представляется наиболее верным выбором дальнейшего развития национальной политики в многоэтничном российском обществе.
Основная альтернатива мультикультурализму в современном мире – принцип «плавильного котла», который в последнее время более политкорректно именуется принципом «салатницы». Он ассоциируется, преимущественно, с Соединенными Штатами, хотя был принят на вооружение и в таких странах как Аргентина, Бразилия и т.д. В последние годы предпринимается немало усилий на пути так называемого «форсированного нациестроительства», среди которых особенно выделяется попытка принятия Закона о российской нации. На данный момент наблюдается немало позитивных предпосылок к строительству единой нации. В первую очередь это развитие информационных технологий: они позволяют постоянно взаимодействовать через тысячи километров, благодаря чему люди могут получать информацию о жителях разных уголков страны из первоисточников. Также в сети Интернет можно обнаружить немало интерактивных карт России, показывающих распространение по ее территории различных культурных феноменов (например, прослушиваемой музыки или любимых футбольных клубов). Изучив их, мы увидим, что вкусы россиян довольно схожи, и это еще одна предпосылка на пути создания единой нации.
Тем не менее, на наш взгляд в обозримом будущем тенденции многокультурности в российском обществе будут преобладать. В первую очередь это связано с тем, что принцип «плавильного котла», в основном, утверждался в странах так называемого «переселенческого капитализма», т.е. там, где единое общество фактически формировалось мигрантами с нуля. В России же сложился огромный опыт развития культуры, социально-экономических отношений и государственности различных этносов, от которого они не будут отказываться.
Еще одна причина невозможности затруднений, с которыми неизбежно столкнется проект создания единой российской нации, лежит в области психологии и ментальности современного российского гражданина. Можно отметить, что в Советском Союзе также создавали государствообразующую нацию из различных народов, однако человек, относящий себя к советскому народу, придерживался определенной идеологии: он в первую очередь считал себя готовым на самопожертвование и был готов поступиться собственными интересами в пользу общества. Сегодня готовность к самопожертвованию осталась, но считается, что человек должен идти на жертву не ради общества, а ради будущего своей семьи. Коллективизм в идеологии отброшен, и российский человек должен быть индивидуалистом.
Также можно отметить, что американцы, оставаясь индивидуалистами, тем не менее, проявляют редкое единодушие во всем, что касается возвышения над остальными странами и установления национальной исключительности. Первенство в мировой экономике, в военной сфере, спорте и других областях только подкрепляют эту веру среднего гражданина США. СССР также использовал преимущества в различных сферах как элемент идеологии, однако Советский Союз меньше говорил о своей уникальности: только относительно прогрессивного строя, к которому должны прийти остальные страны. Кинематограф, литература, музыка не ставились как главенствующие в сфере влияния социалистических стран.
Стоит подчеркнуть и то, что что в прежние десятилетия жители нашей страны были гораздо ближе друг другу в духовной сфере. Советский человек почти всегда, несмотря на наличие устоев, был атеистом или, по крайней мере, не был традиционалистом, что сглаживало противоречия между людьми. Сегодня же россиянин зачастую религиозен, хотя признается, что он может быть любой конфессии (кроме определенных протестантских деноминаций и течений радикального ислама).
Наконец, не способствует сближению представителей различных этнических групп и имущественное расслоение. Российский гражданин, в отличие от советского, может иметь совершенно разный доход. В результате у многих россиян возникает вопрос, с кем у них больше общего: с человеком, живущим в сходных условиях за рубежом, или же с россиянином, находящимся на совершенно другом уровне материального благосостояния. Также важно отметить, что на последних местах среди регионов РФ по уровню жизни находятся национальные республики (Ингушетия, Тыва и т.д.), что ее больше может обострить межэтнические взаимодействия. Кроме того, снижение уровня материального благосостояния большинства населения приводит к тому, что часть уезжает в большие города, а остальные не имеют возможности в достаточной мере путешествовать по собственной стране. А это приводит к потере культурных связей между жителями различных частей нашего государства.
Таким образом, можно отметить, что мультикультурализм как идейный принцип и элемент государственной национальной политики столкнулся в первые десятилетия XXI века с серьезными проблемами как в Европе, так и по всему миру. В то же время накопленный опыт сосуществования различных этносов позволяет рассчитывать на преодоление сложностей в обозримом будущем. Что касается России, то, хотя мультикультурализм в нашей стране никогда не признавался на государственном уровне, анализ текущего положения дел показывает, что его применение его идейных основ в современном российском обществе гораздо более предпочтительно по сравнению с американской концепцией «плавильного котла». Представляется, что наиболее эффективным для нашей страны мог бы стать принцип интеркультурализма, основанный на межкультурных взаимоотношениях. Этот подход, с одной стороны, имеет общие с мультикультурализмом идейные основы, а с другой – в большей степени учитывает особенности этнокультурного пространства современной России.
Список литературы Развитие тенденций мультикультурализма в современном мире и в России
- Glazer N. We Are All Multiculturalists Now. - Cambridge, 1997. - 179 p.
- Jackson L. Multicultural or Intercultural Education in Hong Kong? // International Journal of Comparative Education and Development. - 2013. - No. 15 (2). - P. 99-111.
- Lin A. Bilingualism or Linguistic Segregation? Symbolic Domination, Resistance and Code Switching in Hong Kong Schools // Linguistics and Education. - 1996. - No. 8. - P. 49-84.
- Should EU migrants be required to pass language tests? [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.debatingeurope.eu/2014/11/04/should-eu-migrants-be-required-to-pass-language-tests (дата обращения 18.04.2020).
- ВС РФ посчитал законным запрет носить хиджаб в школах [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.rosbalt.ru/moscow/2015/02/11/1366912.html (дата обращения 18.04.2020).
- Зорькин В. Д. Современное государство в эпоху этносоциального многообразия. Выступление на Международном политическом форуме в Ярославле 7 сентября 2011 года // Российская газета. - 07.09.2011. - С. 4.
- Русские хотят не привилегий, а равноправия и справедливости // Аргументы недели. - 2011. - № 36 (277). - С. 13.
- Табу на хиджаб: в каких странах мусульманская женская одежда запрещена законом [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://joinfo.ua/curious/1236450_Tabu-hidzhab-kakih-stranah-musulmanskaya.html (дата обращения 18.04.2020).