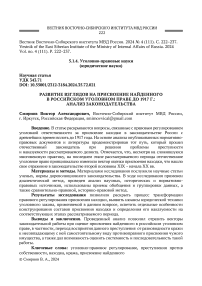Развитие взглядов на присвоение найденного в российском уголовном праве до 1917 г.: анализ законодательства
Автор: Смирнов В.А.
Журнал: Вестник Восточно-Сибирского института Министерства внутренних дел России @vestnik-vsi-mvd
Рубрика: Уголовно-правовые науки (юридические науки)
Статья в выпуске: 4 (111), 2024 года.
Бесплатный доступ
Введение. В статье раскрываются вопросы, связанные с правовым регулированием уголовной ответственности за присвоение находки в законодательстве России с древнейших времен вплоть до 1917 года. На основе анализа опубликованных нормативно-правовых документов и литературы продемонстрирован тот путь, который прошел отечественный законодатель при решении проблемы преступности и наказуемости рассматриваемого деликта. Отмечается, что, несмотря на сложившуюся многовековую практику, на последнем этапе рассматриваемого периода отечественное уголовное право принципиально изменило вектор оценки присвоения находки, что нашло свое отражение в законодательстве второй половины XIX - начала XX вв.
Уголовно-правовое регулирование, преступления против собственности, находка, кража, присвоение найденного
Короткий адрес: https://sciup.org/143183689
IDR: 143183689 | УДК: 343.71 | DOI: 10.55001/2312-3184.2024.35.72.021
Текст научной статьи Развитие взглядов на присвоение найденного в российском уголовном праве до 1917 г.: анализ законодательства
Находка как обретение имущества, владелец которого утратил его, известна российскому праву с древнейших времен. Так, по мнению некоторых исследователей, первые проявления регулирования вопросов обращения с вещами, по каким-либо причинам вышедшими из-под контроля собственника или иного законного владельца, можно найти еще в договорах Руси с Византией. По мнению Н. Н. Товстолеса, статья 8 договора Олега с греками и сопоставимая с ней статья 9 договора Игоря с греками при регулировании вопросов оказания содействия по охране имущества в случае кораблекрушений и иных несчастных случаев, произошедших с кораблями договаривающихся сторон, в том числе оговаривают вопросы привлечения к ответственности тех лиц, которые, воспользовавшись бедственным положением корабля, присвоят себе что-либо из груза, находящегося на нем [1, с. 44–46].
Более отчетливо находка и ее присвоение проявляются в Русской Правде: данный свод правил регулирует право собственника истребовать свою вещь у лица, у которого она была найдена, в пределах своей общины («в своем миру»), а также порядок его действий в случае отыскания своего имущества за ее пределами.
В наиболее ранних вариантах Русской Правды устанавливалось, что «если кто возьмет чужого коня, оружие или одежду, а (хозяин) опознает(их) в своем миру, то пусть он возьмет свое, а (вору платить) 3 гривны вознаграждения потерпевшему» (ст. 13), но «если кто опознает (свою вещь у кого-либо), то нельзя ему ее взять, говоря (при этом) «мое», но пусть скажет «пойди на свод, (выясним), где взял ее»; если (тот) не пойдет, то пусть (выставит) поручника, (что явится на свод) не позднее пяти дней. Если где-нибудь (кто) взыщет с кого-либо остальное, а тот начнет запираться, то идти ему (с ответчиком) на свод перед 12 человеками; и если окажется, что злонамеренно не отдавал, то следует (заплатить) ему (т. е. потерпевшему) деньгами и (сверх того) 3 гривны вознаграждения потерпевшему». (ст.ст. 14, 15 )1. Как можно заметить, при обнаружении своей вещи у другого лица, последнее в любом случае рассматривалось как вор (на что указывает использование в оригинальном тексте закона термина «обида» )2.
В свою очередь, с развитием общественных отношений позиция древнерусского законодателя несколько меняется в сторону признания за находчиком определенной добросовестности в случае своевременного возвращения находящейся у него чужой вещи: например, в издании XVIII в., посвященном анализу Русской Правды, содержится следующий перевод статьи 16: «О изгибели: кто потеряет лошадь, оружие или платье и о том на торгу обнародует, а после потерянную вещь опознает у городскаго жителя (в своем городе – прим. наше), то вещь опознанную у него взяв возвратить хозяину, и сверх того взыскать с него три гривны за обиду.
Ежели кто опознает у кого свою вещь потерянную или пропавшую, то не должен сказать ему, что та вещь моя, но спросить, от кого он ея получил, и на кого покажет, с тем его свести; и ежели сей отвода от себя не зделает, то есть не возможет показать от кого он ту вещь получил, то и долженствует признан быти за татя, с котораго, сверх вещи опознанной, взыскать и все то, что с той вещию пропало, и отдать хозяину »1.
Таким образом, в приведенном выше переводе статьи 16 Русской Правды мы уже наблюдаем, что содеянное не могло признаваться как кража, а находчик вором, в случае если он вернул находящуюся у него вещь до объявления «на торгу» (заклича) либо отвел от себя подозрения, указав на лицо, у которого он эту вещь приобрел. М. Ф. Владимирский-Буданов отмечал, что «находчик… наказанию за утайку подвергается лишь тогда, когда собственником сделана была закличь о пропаже» [2, с. 526].
Более того, некоторые исследователи Русской Правды, основываясь на системном толковании различных норм о закличе по другим категориям дел, приходят к выводу, что вернуть найденную вещь можно было и в трехдневный срок после произведенного объявления. В частности, С. В. Юшков при анализе соответствующей статьи другого списка Русской Правды утверждал, что «если был сделан предварительный заклич на торгу, обнаруженная вещь (ранее так или иначе пропавшая) возвращалась хозяину, при этом платился дополнительный штраф в 3 гривны (ибо, если было объявлено о пропаже и вещь не возвращалась, то дальнейшее держание пропавшей вещи приравнивалось к краже). Если вещь обнаруживалась не позднее, чем через три дня после заклича, то ее, очевидно, могли взять без свода и без штрафа (ср. ст. 32 Кр. Пр.); если позже, то только по своду…» [3, с. 152].
Таким образом, можно сделать вывод, что на первоначальном этапе развития российского законодательства присвоение найденного расценивалось как кража, но только при утайке найденной вещи и при выполнении ее собственником определенных действий, направленных на отыскание утраченного.
В дальнейшем вплоть до принятия Соборного Уложения 1649 года отечественный законодатель вопросам регулирования отношений по находке практически не уделял особого внимания, что может быть объяснено, с одной стороны, продолжением действия положений Русской Правды, с другой, - влиянием обычаев, укоренившихся у славянских народов по поводу обращения с потерянными и найденными вещами. Представляется, что государственная власть в лице князя считала необходимым прибегать к использованию формальных (письменных) источников регулирования только в случаях каких-то экстраординарных, неоднозначных, небесспорных ситуаций.
Например, Псковская судная грамота содержит в себе ряд норм (ст.ст. 46–47, 56 )1, регламентирующих вопросы доказывания добросовестности лица, у которого обнаруживалась чья-либо пропавшая вещь. При этом каких-либо дополнительных мер ответственности за присвоение найденных вещей указанный памятник нашего древнейшего права не содержит, что, в целом, может свидетельствовать о достаточности того порядка решения указанного вопроса, который был закреплен прежде.
Не развивают каким-либо образом положения о находке и нормы Судебников XV–XVI вв., которые хоть и продолжают определять способы установления добросовестности владельца продаваемой вещи, никаких принципиально новых правил обращения с найденными вещами не содержа т2. Даже напротив, некоторые ученые считают, что положения этих кодексов определенным образом противопоставляют находку купле-продаже, поскольку законодатель ограничил возможность доказывания добросовестности обладания вещью только для покупателей и исключил упоминание о находчиках [4, с. 397].
По сути, к регулированию вопросов находки и ответственности за ее присвоение российское право возвращается в тексте Соборного Уложения 1649 года. Исследователи отмечают, что здесь стоит обратить внимание на нормы, содержащиеся в ст. 91 главы XXI и ст.ст. 26–27 главы VII вышеуказанного кодекса законов, причем некоторые из ученых (например, Н. Н. Товстолес) предлагают рассматривать их как общую и специальную [1, с. 65].
Обращаясь к тексту данных законоположений, можно увидеть, что первая из названных статей устанавливала ответственность за присвоение чужого имущества, в том числе потерянного, при каких-то чрезвычайных обстоятельствах, в частности пожарах: «А будет у кого в пожарное, или в иноев которое время что ни буди пропадет, и после того тех своих пропалых животов у кого что опознает, и поимается: и ему того искати на том, у кого поимается, судом, что татиного дела. А будет тот, у кого то поличное вынято, скажет, что он взял то поличное на пожаре, или из воды вынял, а не грабежем, И в приказе являл и записал, и сыщется про то допряма, что то поличное не грабежем взято: и тому, кто за то поличное поимается, велети у него то поличное выкупите, а выкупу дати против торговой цены в полы» 1 . Собственно, и место расположения статьи (глава XXI «О разбойных и о татиных делех»), и ее непосредственное содержание позволяют говорить, что любой, у кого при названных обстоятельствах обнаруживалась чужая вещь и кто не смог бы доказать законность или добросовестность ее нахождения у себя, должен был быть обвинен в краже и понести ответственность в соответствии с общими положениями этой главы как вор.
В свою очередь две других статьи содержали правила обращения с найденными лошадьми и вещами, которые принадлежали «служилым людям». И если первая из них (ст. 26) предписывала определенный порядок обращения с находками, то в ст. 27 уже говорилось о случаях невыполнения предписаний, содержащихся в предыдущей статье: «А будет кто на Государеве службе находных лошадей на явку не приведет, и находныя же рухляди на явку не принесет, и в том на него будут челобитчики, и сыщется про те лошади и про рухлядь по чьему челобитью мимо его: и по сыску те лошади и рухлядь на нем доправити, и отдати челобитчиком» 2 . На наш взгляд, несмотря на то, что непосредственно в тексте статьи об уголовной ответственности недобросовестного находчика ничего не говорится, тем не менее, учитывая значимость лошадей и прочего военного имущества для армии, можно предположить, что и в этом случае лицо, не выполнившее требований ст. 26 и укрывшее у себя найденное имущество, должно было отвечать за «татиное дело».
Тот факт, что даже в середине XVII века позиция законодателя оказывается идентичной наиболее древнему памятнику нашего права – Русской Правде, позволяет нам еще раз утверждать, что в течение всего периода между этими нормативными правовыми актами присвоение найденного системно и последовательно воспринималось как кража. Дополнительным подтверждением нашего предположения могут являться тексты западнославянского – Литовского государства: Судебник Казимира 1468 года, а также Литовский статут, которые с разной степенью подробности, но в любом случае гораздо точнее восточнославянского права периода до Соборного Уложения регулировали некоторые вопросы находки.
Так, ст. 23 Судебника Казимира предусматривала следующее: «… коли бы кто коня, а любо ключу знашол блудящюю, или иные которые речи изнайдеть, ино оповедати околици: не изнайдеть ли ся истець до трех днев, ино повести на королевскый двор, по давному, да переем свой возьми; а пак ли который што утаить, а всхочеть собе покорыстовать, а будет на то довод, тот такый злодей, как который…»3, что можно истолковать как обязанность любого, кто найдет чужого коня или лошадь, а также любую другую вещь, оповестить об этом околицу в целях отыскания собственника. В случае необнаружения такового находчик должен был доставить найденное на королевский двор и получить за это вознаграждение. Если же находчик решал утаить и присвоить находку, то он признавался вором и соответствующим образом преследовался.
Обращает на себя внимание использование в тексте Судебника наречия «по давному», которое должно быть истолковано в том смысле, что данное правило не являлось законодательной новеллой того времени, а, напротив, отражало издавна сложившийся порядок.
Литовский статут, который в историко-правовой науке часто воспринимается как совокупность последовательно принятых в течение XVI в. статутов (1529 г., 1566 г., 1588 г.), также приводит несколько случаев находки, причем в каждой последующей редакции, по сути, воспроизводит и несколько видоизменяет уже давно сложившееся правило (во всех редакциях его авторы ссылаются на необходимость придерживаться давнего обычая). Мы позволим себе привести здесь лишь положения самого позднего из приведенных статутов:
Артикул 25 «О приблудных животных» предписывал: «… если кто бы из шляхты или из княжеских, панских врядников продержал у себя приблудный или угнанный скот в течение трех дней и не отдал во двор наш и в том был бы изобличен и поличное было отнято из дома шляхетского или панского двора, тогда должен отвечать как за воровство »1.
Артикул 28 «Об убытках, которые произойдут во время пожара или наводнения» устанавливал, что «если бы случился во время пожара от огня ущерб в городе или где в другом месте, или тонул бы кто в воде, а в это время что-нибудь у него пропало, а затем пропавшие же вещи оказались утаенными у кого-либо, тогда хозяин вещей должен с ним судиться как о воровстве. А тот, у кого это будет опознано, если докажет заявлением во вряде, что все это из воды или из огня вынул, то освобождается от выплаты воровского штрафа, а те вещи должен возвратить хозяину… »2.
Как можем заметить, и в том, и в другом случае невыполнение обязанности либо невозможность доказать непротивоправный характер нахождения у находчика какой-либо вещи должны были расцениваться как воровство и соответственным образом преследоваться.
Из вышеприведенных примеров можно сделать вывод, что подходы, использовавшиеся разработчиками Соборного Уложения и Литовских статутов, были весьма схожими, а в случае ст. 91 главы XXI Соборного Уложения и артикула 28 Статута 1588 года – вообще идентичными. Это еще раз подчеркивает единство обычаев, правил обращения с найденными вещами и привлечения к ответственности за их несоблюдение, их распространенность и применимость в России в период между Русской Правдой и законодательством XVII в.
Дальнейшие варианты решения проблемы ответственности за присвоение найденного обнаруживаются в Артикулах Петра I. Артикул 195 Воинского Артикула 1716 года устанавливал, что «ежели кто что найдет в походе или инде где, на дороге и местах, хотя б что ни было, оный долженствует офицеру своему о сем донести, и найденое без замедления принести, дабы у пароля или инако о сем объявлено, и найденое господину, кому надлежит, отдано было. Кто инако учинит, имеет наказан быть яко за кражу, и найденное паки возвратить…
Наказание воровства обыкновенно умаляется, или весьма отставляется, ежели кто из крайней голодной нужды (которую он доказать имеет) съестное или питейное, или иное что невеликой цены украдет, или кто в лишении ума воровство учинит, или вор будет младенец, которых дабы заранее от сего отучить, могут от родителей своих лозами наказаны быть »1.
Аналогичный подход к оценке сокрытия находки и определению наказания за это содержался в Морском уставе 1720 года: «…а ежели кто что нашедь не объявит, тот наказан будет, яко бы оное украл» (ст. 131 )2.
Небезынтересным является и Именной Указ Петра I от 13 февраля 1718 года «О приносе родившихся уродов, также найденных необыкновенных вещей во всех городах к Губернаторам и Комендантам, о даче за принос оных награждения и о штрафе за утайку», в котором в том числе возлагалась обязанность: «…ежели кто найдет в земле, или в воде какия старыя вещи, а именно: каменья необыкновенные, кости человеческия или скотския, рыбьи или птичьи, не такия, какия у нас ныне есть, или и такия, да зело велики или малы перед обыкновенным, также какия старые подписи на каменьях, железе или меди, или какое старое и ныне необыкновенное ружье, посуду и прочее все, что зело старо и необыкновенно: також бы приносили, за что давана будет довольная дача, смотря по вещи; понеже не видавь, положить нельзя цены…». При этом специально оговаривалось, что в случае невыполнения требований этого указа виновные могли быть подвергнуты штрафу – «А ежели кто против сего указа будет таить, на таких возвещать, а кто обличен будет, на том штрафу брать вдесятеро против платежа за оныя, и те деньги отдавать изветчикам »3.
Как можно заметить, в этот период объем правового регулирования вопросов обращения с найденным имуществом пополнялся в основном нормативными актами частного характера: находка в походе, в морском путешествии, а также предметов, представлявших особую научную, культурную или историческую ценность, которые базировались на общих положениях продолжавшего сохранять юридическую силу Соборного Уложения.
Начиная со второй половины ХVIII в. российский законодатель начал принимать меры к систематизации и кодификации отечественного нормативного материала, пытаясь создать отраслевое законодательство, в том числе и уголовное. В ходе этой работы появились проекты Уголовного уложения 1754–1766 годов, которые не обошли своим вниманием и оценку присвоения найденного имущества.
В первоначальном проекте 1754 года статья 19 главы 33 «О ворах и татях и о мошенниках», основываясь на артикуле 195 Артикула воинского Петра I и распространяя его действие на любые случаи находки (а не только в походе), устанавливала следующее: «ктож найдет что на дороге, на улице или инде где и того находного в судебном правительстве, а в уездах – сотским и десятским, не объявит, но у себя оставит, дабы им корыстоваться, и таких наказывать за первый раз плетьми, за второй – кнутом, и найденное из его имения взыскав отдать истцу, а у кого имения нет и того взыскания учинить будет не можно, и таких для зарабатывания ссылать в каторжную работу, а за третий раз бить кнутом и с вырезанием ноздрей ссылать на каторгу вечно; а кто такое найденное объявит, и ему дать из того найденного четвертую часть »1.
В свою очередь, проект 1766 года содержал в той же главе уже две взаимосвязанных статьи – 19 и 21, первая из которых являла собой пример позитивного регулирования вопроса обращения с найденными вещами (что, очевидно, должно было бы находиться в нормативных правовых актах гражданско-правовой направленности), а вторая – уже без таких подробностей в установлении наказания за первоначальные и повторные присвоения – предписывала «с таким учинять тоже, как бы кто ту вещь украл, не ставя ему в правоту что нашел, ибо он ее не объявил »2.
Несмотря на то, что первая редакция уголовного уложения не называла присвоение найденного кражей напрямую, тем не менее место нахождения статьи об этом, а также размер предусмотренного наказания, сопоставимый с большинством из представленных в проекте наказаний за кражи, позволяет нам говорить, что и на этом этапе развития российского государства законодатель не видит разницы между этими деяниями. Об этом свидетельствует и более поздняя редакция 1766 года, отождествлявшая эти два деяния.
После указанных проектов Верховная власть не прекратила попыток совершенствования существующего правового регулирования, хотя и делала это не столько системно, сколько сообразно проблемам, возникающим в тот или иной момент. Так, 3 апреля 1781 года был издан Указ «О суде и наказаниях за воровство разных родов и о заведении рабочих домов во всех Губерниях». Следуя за преамбулой этого документа («Встречаются в законах настоящих различные недостатки, неясности и неудобства, особливо по делам уголовным… подобные несходства оказываются при исследовании и суде уголовного преступления воровства…») 1 , императрицей Екатериной II были соединены, приведены в порядок и исправлены все действовавшие в то время указания о разных видах воровства [5, с. 125]. В частности, под кражей в Указе понималось: «…буде кто у кого тайным образом возьмет деньги, или иное движимое имение без воли или согласия того, чьи те деньги или движимое имение, оное спрячет, или продаст, или заложит, или инако употребит в свою пользу»2. И хотя напрямую Указ не говорил о присвоении найденного, но, учитывая сложившийся подход отождествления его с кражей, можно предположить, что такие случаи полностью подпадали под его действие и влекли те меры ответственности, которые были им установлены. Наказание дифференцировалось в зависимости от двух взаимосвязанных обстоятельств: во-первых, от размера похищенного (присвоенного), во-вторых, от повторности совершенного деяния. В случае совершения хищения имущества стоимостью менее 20 рублей виновный отправлялся в «рабочий дом», где ему предстояло отработать причиненный ущерб, выплатить компенсацию потерпевшему, а также заплатить штраф в рабочий дом. Кроме того, за вторую и третью кражи менее 20 рублей виновный подвергался ударам плетьми (двум и трем соответственно). В случае же, если любой из эпизодов кражи (первый, второй или третий) превышал сумму ущерба в 20 рублей, а также в случае совершения деяния, подпадающего под вышеуказанное определение, в четвертый раз вне зависимости от размера похищенного виновный предавался общеуголовному суду и нес наказание в соответствии с действующими положениями Соборного Уложения, Воинского Артикула или Морского Устава.
Чуть позже, в 1799 году, Павел I в Указе «О наказаниях за смертоубийство, воровство грабеж и воровство кражу», ссылаясь на неэффективность общепревентивного воздействия наказания, которое было установлено Указом 1781 года («каторжная казнь») за кражу свыше 20 рублей, постановил «наказывать плетьми, и не возвращая в их селения, годных отдавать в рекруты с зачетом, а негодных отсылать в Сибирь на поселение… »3.
Следующим источником, в котором затрагивались вопросы ответственности за присвоение найденного, можно признать проект Уголовного Уложения Российской Империи 1813 года. В соответствии с параграфом 524 отдела I «Общие постановления» отделения четвертого «О воровстве» «в кражу также вменяется, когда кто, нашедь потерянную чужую вещь или деньги и не объявя о том по Уставу Полиции в надлежащем месте, утаит оныя»4, то есть и здесь преступления кражи и присвоения найденного не различались. Соответствовали друг другу и наказания за указанные деяния: параграф 548 отдела II «О наказаниях за разные роды воровства», непосредственно расположенный за нормой о наказании за кражу, велел «на сем же основании наказывать за вменяемую по параграфу 524 в воровство утайку найденных вещей или денег». В связи с этим представляется логичным допущение, что присвоение находки каралось идентично с кражей: дифференцировано, в зависимости от размера ущерба (до 5 рублей, от 5 до 20 рублей, от 20 до 100 рублей и свыше 100 рублей), а также повторности и ряда других отягчающих обстоятельств1.
Новым этапом в регламентации, в том числе уголовно-правовых вопросов, стал Свод законов Российской Империи 1832 года – результат титанической работы, осуществленной его составителями. Будучи продуктом инкорпорации и систематизации, Свод законов не представлял собой какие-то вновь принятые законы, а, напротив, являл собой последовательное и упорядоченное отражение всего того, что было принято в Российском государстве, начиная с Соборного Уложения. Каждая статья любого тома Свода законов представляла собой не только квинтэссенцию опыта регулирования того или иного вопроса, но и содержала отсылку к тем нормативным актам прошлых лет, на основе которых делалось обобщение.
Основываясь на таком способе изложения законодательного материала, мы можем установить тот исторический опыт и те подходы, на которых базировались составители Свода, включая нормы об ответственности за присвоение найденного в его текст. Так, ст. 704 Свода законов уголовных прямо констатировала, что «воровством-кражей почитается также: … 2) если кто, найдя чужую вещь, надлежащим порядком о находке не объявит», а основой для данной нормы, исходя из узаконений, приведенных к данной статье, выступили уже проанализированные нами положения ст. 91 главы XXI Соборного уложения, Артикул 195 Военного Артикула и ст. 131 Морского Устав а2, что в совокупности с общим определением кражи из ст. 703 и его предтечей из Указа от 3 апреля 1781 года позволяет с удовлетворением отметить правильность наших вышеизложенных выводов о сохранявшемся на всем протяжении XVIII в. едином взгляде законодателя на кражу и присвоение найденного как однопорядковые деяния.
Казалось бы, вековые традиции наконец-то получили свое нормативное воплощение и в целом последовательно отразили сложившиеся правила поведения в едином правовом источнике. Однако в ближайшее десятилетие российское законодательство резко меняет вектор уголовно-правовой оценки присвоения найденного: Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 года (далее – Уложение о наказаниях) впервые за всю историю отечественного права начинает трактовать его как самостоятельное преступление.
Весьма обширный раздел двенадцатый «О преступлениях и проступках против собственности частных лиц» закрепляет ответственность за кражу и присвоение найденного не просто в разных статьях, – они предусматриваются разными главами:
если краже посвящено отделение третье третьей главы «О похищении чужого имущества», то нормы об уголовной ответственности за присвоение найденного располагаются в отделении третьем четвертой главы «О присвоении и утайке чужой собственности». Более того, устанавливая наказания за некоторые из видов рассматриваемого преступления, законодатель делает отсылку уже не к нормам о воровстве-краже, а к санкциям статей, предусматривающих ответственность за воровство-мошенничество.
Причины таких изменений требуют своего самостоятельного научного осмысления, но в общих чертах можно предположить значительность влияния уголовно-правовой теории, становление и развитие которой началось как раз во второй четверти XIX в. Появляющиеся научные школы при университетах и училищах, различные юридические общества активно включились в работу по осмыслению формы и содержания нашего законодательства. Логичность суждений, аргументированность выводов, опора на анализ соотносимых норм из зарубежного законодательства, оформление этого в научные статьи, а также адресованные законодателю предложения и замечания по совершенствованию законодательства не могли не сказаться на содержании законов.
Говоря непосредственно о присвоении находки в этот период, стоит отметить, что Уложение о наказаниях различало присвоение найденного, владелец которого известен, включая присвоение клада, (ст. 2193) и необъявление о находке в случаях, когда владелец найденной вещи виновному не известен (ст. 2194 )1. Первое из преступлений, если судить по основным составам, рассматривалось как более тяжкое деяние, что следует из санкций статей: за присвоение найденного виновный, помимо обязанности вернуть присвоенное или его стоимость потерпевшему, карался денежным взысканием, соответствующим двукратной стоимости цены присвоенной вещи или суммы денег, в то время как за необъявление о находке наказывалось таким же взысканием, но в сумме, равной стоимости присвоенного. Квалифицированные же составы (в основном предусматривающие повышение ответственности за повторность деяния), если судить по санкции и степени опасности, уже сравнивались, – и там, и там наказание устанавливалось как за воровство-мошенничество, совершенное в первый раз.
Интересным представляется тот факт, что при конструировании состава необъявления о находке законодатель включает в число обязательных признаков состава место совершения деяния (город или селение), временной интервал (для города – необъявление более трех дней, для селения – более трех недель), а также размер ущерба (для города – 10 рублей и более, для селения – 1 рубль и более).
Обращает на себя внимание, что Уложение о наказаниях знало и особые случаи присвоения найденного, а именно:
-
- ст. 638 (глава четвертая «О нарушении Уставов Горных» раздела седьмого «О преступлениях и проступках против имущества и доходов казны») устанавливала, что «за сокрытие, для обращения в свою пользу, самородков золота, серебра или
платины, найденных в казенной или частной земле случайно, но при точном знании, что найденное есть самородок золота, серебра или платины, виновные подвергаются высшей мере наказания, определенной за утайку найденной чужой собственности в статье 2193 сего Уложения »1. Сформулированная таким образом санкция позволяет утверждать, что указанные нормы соотносились между собой как общая и специальная.
-
- ст. 1648 (отделение пятое «О нарушении постановлений о торговом мореплавании» главы 13 «О нарушении Уставов торговых» раздела восьмого «О преступлениях и проступках против общественного благоустройства и благочиния») регламентировала, что «за похищение, присвоение или утайку спасенного или найденного от претерпевшего крушение корабля или инаго судна… виновные подвергаются наказаниям, определенным в статье 2148 сего Уложения за воровство-кражу во время пожара, наводнения или при ином несчастном случае » 2 . Здесь же мы видим определенный возврат законодателя к унификации ответственности за разные способы завладения имуществом при описанных обстоятельствах и объединение ответственности с кражей, совершенной при отягчающих обстоятельствах.
Дальнейшие шаги по совершенствованию норм об уголовной ответственности за присвоение находки отечественный законодатель предпринимает в Уставе о наказаниях, налагаемых мировыми судьями 1864 года (далее – Устав). По сути, здесь анализируемый состав преступления переходит в разряд маловажных преступлений, которые должны были рассматриваться мировыми судьями. В отличие от многих смежных преступлений (кража, мошенничество, присвоение чужого имущества и т. д.), которые в зависимости от обстоятельств совершения были разделены по степени общественной опасности и, как следствие, регламентировались и названным Уставом, и претерпевшим трансформацию Уложением о наказаниях, присвоение найденного и необъявление о находке были полностью перенесены во вновь принятый Устав.
Как можно заметить, смысл соответствующих статей нового нормативного акта (ст.ст. 178 и 179) остался прежним, но определенные изменения были внесены. Присвоение найденного в первый раз каралось денежным взысканием, не превышающим тройной размер стоимости присвоенного, а квалифицированное присвоение найденного (повторное, а также невыдача присвоенного после поступления соответствующего требования либо после опубликования собственником объявления об утере, при условии, что виновному известно о такой публикации) – заключением в тюрьму от двух недель до шести месяцев.
В составе необъявления о находке исчезла дифференциация в зависимости от места обнаружения имущества и, соответственно, размера присвоенного, устанавливался общий срок, после которого невыполнение обязанности по публикации становилось преступным, – три недели. Наказание осталось прежним – денежное взыскание в размере стоимости присвоенного имущества. Квалифицированные составы были исключены 1 . Немного позже, в 1868 году, статья 179 Устава была дополнена положением об ответственности за необъявление о пригульном скоте: «Тому же взысканию подвергается каждый, на чьей земле окажется, или к чьему стаду пристанет пригульный, пришлый, неизвестно кому принадлежащий скот, если, в течение семидневного срока, не заявит о том местной полиции или сельскому начальству»2.
Последним значимым событием дореволюционного периода развития отечественного уголовного права явилось принятие в 1903 году Уголовного уложения. Несмотря на то, что оно так и не было полностью введено в действие, его содержание, а также все материалы, связанные с деятельностью редакционной комиссии, представляют собой бесценную информацию для уголовно-правовой науки, могут послужить базисом для современного законодателя (при правильном уяснении его положений, безусловно).
Учитывая, что с помощью этого Уголовного уложения законодатель, как представляется, хотел вернуться к единому нормативному акту, регулирующему вопросы преступного и наказуемого, в его состав опять было включено большинство тех преступлений, которые с 1864 года преследовались в порядке, предусмотренном Уставом о наказаниях, налагаемых мировыми судьями. Не стали исключением и нормы о присвоении находки. В главу 31 «О необъявлении о находке, присвоении чужого имущества и злоупотреблении доверием» были помещены три статьи (571–573):
-
- ст. 571 предусматривала ответственность за необъявление о находке, в том числе о неизвестно кому принадлежащем пригульном скоте, оказавшемся на земле виновного или прибившемся к его стаду. Здесь опять происходит возврат к установлению минимального размера присваиваемого имущества как криминообразующему признаку, – оно должно было превышать 3 рубля. Также предельно конкретизирована санкция по отношению к виновному лицу, которое наказывалось денежной пеней не свыше 10 рублей;
-
- ст. 572 устанавливала ответственность за умышленное удержание с целью обращения в свою собственность, за умышленную растрату найденного или забытого у виновного неизвестно кому принадлежащего имущества ценой более трех рублей, а также за те же действия, совершенные в отношении неизвестно кому принадлежащего скота. Здесь денежная пеня устанавливалось в привязке к стоимости присвоенного имущества, но в любом случае не могла превышать 100 рублей;
-
- ст. 573 регламентировала ответственность за присвоение найденного в чужой земле клада, а также найденного или забытого имущества или пригульного скота, «хозяин коих во время учинения присвоения был виновному известен» (основной состав), и за присвоение найденного имущества с учетом того, что виновному было известно, что хозяин разыскивает это имущество, либо когда хозяин требовал выдачи
этого имущества от виновного (квалифицированный состав). Основной состав рассматриваемого преступления наказывался пропорциональной денежной пеней (в пределах тройной стоимости присвоенного имущества) либо арестом на срок до трех месяцев, квалифицированный – заключением в тюрьму на срок не более шести месяце в1.
Завершая наше исследование, необходимо констатировать, что российское уголовное право в своей оценке обращения с найденными вещами прошло достаточно долгий и весьма стабильный путь. Тем удивительнее выглядит тот стремительный разворот в уголовно-правовой трактовке анализируемого деяния, который произошел в середине XIX в. Безусловно, причины, которые привели к подобным изменениям, те научные и политико-государственные воззрения, которые лежали в их основе, нуждаются в дополнительном и последовательном изучении. В конечном итоге учет законодательного опыта наших предшественников должен помочь в совершенствовании современного уголовного законодательства, в преодолении тех трудностей, с которыми сталкивается современная практика правоприменения
Список литературы Развитие взглядов на присвоение найденного в российском уголовном праве до 1917 г.: анализ законодательства
- Товстолес Н.Н. Находка и место ее в системе русского законодательства // Журнал Министерства юстиции. 1901. № 9. С. 44 - 88.
- Владимирский-Буданов М.Ф. Обзор истории русского права /М.Ф. Владимирский-Буданов. Петроград; Киев: издание Н. Я. Оглоблина, 1915. 701 с.
- Памятники русского права: в 8-и вып. /под ред. С.В. Юшкова. М.: Государственное издательство юридической литературы., 1952. Вып. 1: Памятники права Киевского государства: X-XII в.в. 288 с.
- Памятники русского права: в 8-и вып. /под ред. Л.В. Черепнина. М.: Государственное издательство юридической литературы., 1955. Вып. 3: Памятники права периода образования Русского централизованного государства XIV-XV в.в. 528 с.
- Лосева С.Н. Некоторые вопросы развития отечественного уголовного законодательства во второй половине XVIII - начале XIX вв. // Пробелы в российском законодательстве. 2018. № 3. С. 125-127. EDN: OUBYOB