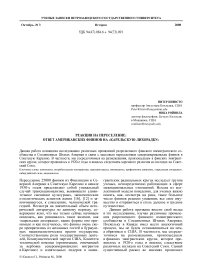Реакция на переселение: ответ американских финнов на «карельскую лихорадку»
Автор: Кивисто Питер, Ройнила Мика
Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu
Рубрика: История
Статья в выпуске: 3 (95), 2008 года.
Бесплатный доступ
Данная работа посвящена исследованию различных проявлений разрозненного финского иммигрантского сообщества в Соединенных Штатах Америки в связи с массовым переселением североамериканских финнов в Советскую Карелию. В частности, мы сосредоточимся на размежевании, произошедшем в финских эмигрантских кругах, которое проявилось в 1920-е годы и явилось следствием коренного различия во взглядах на Советский Союз.
Коммунизм, потребительские кооперативы, народная пресса, иммигранты, профсоюзное движение, "карельская лихорадка", набор рабочей силы, национализм
Короткий адрес: https://sciup.org/14749450
IDR: 14749450 | УДК: 94(47).084.6
Текст научной статьи Реакция на переселение: ответ американских финнов на «карельскую лихорадку»
Переселение 25000 финнов из Финляндии и Северной Америки в Советскую Карелию в начале 1930-х годов представляет собой уникальный случай транснационализма, выявившего удивительное смешение культурных, экономических и политических аспектов жизни [16], [12] и закончившегося, к сожалению, человеческой трагедией. Несмотря на значительный объем исторической литературы по данному периоду, совершенно ясно, что мы только сейчас начинаем понимать, как развивалось такое явление, как «карельская лихорадка», какие формы оно принимало и как получилось, что финны очень скоро превратились из желанных гостей в буржуазных националистических врагов государства. Соответствующие роли государственных деятелей, Коммунистической партии США, Комитета технической помощи (организации, отвечавшей за вербовку североамериканских мигрантов в Карелию) и влиятельных лидеров в имми- грантских радикальных кругах исследует группа ученых, непосредственно работающих в сфере межнациональных отношений. Исходя из коллективной модели поведения, для ученых важно понять, как, несмотря на риск, такое большое число финнов решили упаковать все свое имущество и отправиться в столь далекое и трудное путешествие.
Данная работа призвана внести свой вклад в это исследование, изучая различные проявления разрозненного финского иммигрантского сообщества в Соединенных Штатах Америки. Поскольку в Канаде имел место аналогичный процесс, мы не будем останавливаться на нем, а обратимся к США. В частности, мы сосредоточимся на размежевании, произошедшем в финских эмигрантских кругах, которое проявилось в 1920-е годы и явилось следствием различных взглядов на Советский Союз. Самый существенный раскол во мнениях произошел
между теми, кто рассматривал СССР как маяк и образец коммунистического развития, и теми, кто считал систему, созданную после прихода большевиков к власти, все более и более авторитарной и неизбежно подорванной сомнительной экономической политикой Кремля. Конфликт между сторонниками этих двух позиций вылился в ожесточенную борьбу за руководящие роли в кооперативном движении. Стоит отметить, что данный конфликт проявился во времена активного процесса ассимиляции финского сообщества, и так как иммигранты прочно обосновались на своей новой родине, они были менее подвержены влияниям извне, будь то старая национальная привязанность к Финляндии или идеология интернационализма.
«ЦЕРКОВНЫЕ» ФИННЫ, «КРАСНЫЕ» ФИННЫ И ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА В ФИНЛЯНДИИ
Историография финской иммиграции в Соединенные Штаты неоднократно обращалась к масштабному внутреннему расколу финнов на религиозной и политической почве. С одной стороны выступали религиозные финны, прежде всего лютеране, придерживавшиеся консервативных убеждений и относящиеся критически к социализму не только из-за неприятия его экономических основ, но и его враждебного отношения к религии. С другой стороны, радикальные финны стояли за социализм и индустриальное профсоюзное движение и выражали как антиклерикальные, так и антирелигиозные взгляды. Одной из уникальных особенностей этого специфического этнического сообщества было то, что разногласия между «церковными» финнами и «красными» финнами вели к созданию «дублирующих систем общественной организации» [8; 12], [11; 121–124]. Церкви и социалистические организации действовали как отдельные социальные силы. Ситуация становилась еще более запутанной, поскольку все прочие общественные организации стали местом для активных дискуссий и споров. В частности, ярким примером тому были общества трезвости и потребительские кооперативы. История периода формирования финской диаспоры изобилует примерами конфликтов по поводу управления этими двумя учреждениями, в которых сталкивались консерваторы и радикалы. В любом случае, ко времени революции в России данное общественное размежевание было по большей части завершено, и, по крайней мере, на этом уровне этническое сообщество действовало в значительной степени так, как будто оно функционировало внутри двух отдельных, непересе-кающихся сфер влияния.
Церковные финны стремились и сохранить свое исконно финское религиозное самосознание, и быть принятыми в новое общество. Со своей стороны левые были причиной антифин-ских настроений и, таким образом, служили серьезным препятствием к слиянию финнов с собственно американским обществом. Вдобавок члены левого крыла развернули кампанию в поддержку советского эксперимента, и революция в России послужила лишь укреплению их убеждений, а гражданская война в Финляндии еще больше усилила враждебность между двумя лагерями. Народная пресса того времени пестрела оскорбительными высказываниями враждующих сторон. К примеру, редакторы консервативной газеты «Päivälehti», осуждая левых, писали: «Позор им: красная революция в Финляндии – самое постыдное дело, когда-либо совершенное в Финляндии» [14; 221]. В ответ левые изображали белых в гражданской войне «финско-немецкими юнкерами», «палачами» и «реакционными подхалимами» [9; 341].
После победы белых в войне консервативные финны в Северной Америке, казалось, все более и более теряли интерес к своим левым соотечественникам. По крайней мере, об этом позволяет судить обзор газет и других публикаций, связанных с церковными финнами. В течение 1920-х годов, предшествовавших эмиграции в Карелию, изменениям, происходившим внутри левого крыла финнов в Северной Америке, уделялось очень мало внимания. Хотя консервативные финны и считали массовое бегство в Карелию роковой ошибкой, это их не слишком занимало. Гораздо более важное значение имели споры по проблеме американизации. Например, одним из самых горячо обсуждаемых в то время был вопрос о том, следует ли поощрять распространение английского языка в церкви. Таким образом, можно заключить, что гражданская война поставила финальную точку в деле раскола диаспоры, вылившегося в два упомянутых выше отдельных этнических социальных мира.
«КРАСНОЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ»
1920-е годы для финских левых были «красным десятилетием», поскольку в этот период большое количество финнов приняло идеи коммунизма. Размежевание внутри левого блока стало очевидным уже двумя десятилетиями ранее, когда реформисты из социал-демократов (связанные, в частности, с газетой «Raivaaja») откололись от более радикальных сторонников революции, включая промышленных унионистов и воинствующих социалистов. Последние, в свою очередь, были на стороне таких газет, как «Industrialisti», «Eteenpäin», «Toveri» и «Työmies» . Как и в случае с церковными финнами, к окончанию Первой мировой войны реформисты левого крыла начали вливаться в американское общество, что означало их участие в том, что Ленин будет уничижительно именовать «профсоюзами бутерброда», а также в партийной политике, как на стороне Демократической партии, так и на стороне кандидатов от третьей партии, связанных с Социалистической партией.
Многие из журналистов, связанных с газетой «Raivaaja», с недоверием смотрели на Октябрьскую революцию, утверждая, что мировая революция в настоящее время невозможна и, следовательно, единичное социалистическое государство не имеет реального шанса на выживание. Кроме того, Россия не прошла в своем развитии стадию капитализма, поэтому ее не рассматривали как истинного претендента на социалистическое преобразование. Приняв на веру идею Маркса о том, что буржуазия составляла революционный класс и находилась в процессе создания совершенной экономической системы, обладавшей потенциалом для заложения основ общества постдефицита, они утверждали, что Советскому Союзу еще только предстоит испытать на себе подлинный расцвет капитализма. Эти социал-демократы, включая Моисея Халя и Франса Сюрьяла, не соглашались с основной предпосылкой Октябрьской революции, заключавшейся в идее о том, что к социализму можно прийти, минуя стадию капитализма. Кроме того, журналисты выразили сильное беспокойство по поводу того, что экономическая отсталость России вполне может привести к этнонационально-му разъединению [15; 59–60].
Активисты профсоюзного движения сразу после войны подверглись гонениям, поэтому к концу 1920-х годов являлись слабым звеном в лагере левых милитаристов. Позорное осуждение 166 лидеров организации в Чикаго в 1919 году свидетельствовало о драматическом спаде движения. В то же самое время успех революции в России заставил многих переметнуться в коммунистический лагерь. Символом этой тенденции стало дело «Большого Билла» Хейвуда. Выйдя из тюрьмы под залог, он бежал в Советский Союз. Другие лидеры времен Первой мировой войны также обратились к коммунизму, включая Уильяма З. Фостера, Элизабет Герли Флайнн и Эрла Броудера. Однако были и те, кто, оставляя позиции левого фланга подобно своим коллегам из социал-демократов, выражал серьезные сомнения по поводу большевизма. Посланный с разведывательной миссией в Советский Союз Роберт Майнор представил крайне негативную оценку той централизованной и бюрократической системы, с которой ему пришлось столкнуться, сделав вывод, что это была лишь бледная тень пролетарской демократии, к достижению которой так стремилось профсоюзное движение. Но, несмотря на отступничество многих лидеров, большая часть англоязычных рядовых членов продолжали верить в профсоюзное движение [7].
Параллельное развитие было заметно и в пределах сообщества американских финнов. Генри Аскели и Вило Боуман, два видных профсоюзных лидера, критиковали коммунистов за мракобесие и авантюризм. Подобная точка зрения отражалась на первых полосах газеты «Industria-listi». Большинство финнов не решились при- соединиться ни к одной из четырех коммунистических партий, появившихся в период между 1919 и 1921 годом. Это были Коммунистическая трудовая партия, Объединенная коммунистическая партия, Коммунистическая партия Америки и Коммунистическая партия. Вероятно, это объяснялось неприятием финнами незаконных партий. Оно исчезло с учреждением Рабочей партии Америки (РПА) в 1922 году, когда Ленин защищал стратегию объединенного фронта, которая была направлена на создание легальной политической партии. Спустя год после ее основания финны составляли уже 44,7 % из 15233 членов партии. Шесть финноязычных изданий – «Työmies», «Punikki», «Eteenpäin», «Toveri», «Toveritar» и «Uusi Kotimaa» – присоединились к РПА, представляя треть общего тиража партийной прессы [15; 144].
В 1920-е годы именно в этом контексте в Америке развивалось отношение финских левых радикалов к Советскому Союзу. С одной стороны, пропаганда была весьма успешна в освещении того, что рассматривалось как главные достижения в экономическом развитии. Многочисленные делегации коммунистов или сочувствующих из Северной Америки и Западной Европы стремились ознакомиться с советским опытом из первых рук. Вот типичный отчет, изданный в «The Cooperative Pyramid Builder» [4], который завершается словами: «Мы увидели Советский Союз страной реальных достижений и успехов, потому что организованные рабочие и крестьяне взяли бразды правления в свои руки». С другой стороны, деспотизм советских властей непосредственно ощущался и в Соединенных Штатах, и несколько раз финнам пришлось сопротивляться их требованиям. Они стремились сохранить языковые фракции РПА, настаивая на том, что языковые барьеры все еще существуют и в ближайшей перспективе не могут быть преодолены. Финны также возражали против членских взносов, считая их дискриминационными [11; 168]. В течение этого десятилетия Кремль стремился усилить контроль над левой прессой и общественными организациями. Это имело определяющее значение в борьбе за управление кооперативами.
Майкл Карни вел хронику создания, созревания и распада кооперативного движения в пределах финской диаспоры в Америке, и другие ученые признали уникальное значение кооперативов как главной арены политической борьбы в рядах левых радикалов [17], [11]. Борьба за управление кооперативами, пик которой пришелся на 1929–1930-е годы, была в то же самое время поворотным моментом в определении особого отношения к Советскому Союзу и к революции, отношения, которое впоследствии помогло идентифицировать и выделять тех, кто был заинтересован в эмиграции в Карелию, и тех, кто воспринимал это как безумие. Конфликт достиг кульминации, когда два служащих Кооперативного обменного центра (КОЦ), бывших также членами РПА – Джордж Халонен и Эскель Ронн, – отказали партийному руководству, когда оно, нуждаясь в наличных деньгах, потребовало ссуду. За это они подверглись суровому осуждению на страницах «Työmies». В то же время большинство членов правления КОЦ приняли их сторону.
Когда издательство «Työmies», несмотря на контракт на издание «The Cooperative Pyramid Builder», в ноябре 1929 года уничтожило тираж – 1500 копий, заявив, что коммунистическая позиция в нем представлена в невыгодном свете, враждебность явно усилилась. В следующем месяце Матти Тенхунен и Генри Пуро были вызваны в Кремль для обсуждения сложившихся противоречий. На тот момент Тенхунен поддерживал позицию большинства КОЦ, в то время как Пуро защищал коммунистическое меньшинство. Однако по причинам, которые остаются неясными, во время пребывания в Москве Тенхунен поменял свое мнение и встал на сторону Пуро.
В то же самое время КОЦ выпустил сообщение под заголовком «Объяснение», прояснившее ситуацию: издатель не только отказался заявить его позицию на страницах газеты, но и нарушил контракт, отказываясь разрешить публикацию даже в издательстве КОЦ. В рассматриваемом документе большинство членов правления поставили вопрос о том, кто же должен управлять кооперативным движением: посторонние, будь они в РПА или Кремле, или же непосредственно сами члены. Иными словами, все было представлено как вопрос демократического управления. И хотя члены РПА составляли меньшинство от всего членского состава КОЦ, авторы открытого письма осознали, что «два года назад значительная часть финского пролетариата и фермеров откровенно сочувствовала коммунистическому движению» [5; 5].
Именно в этом сражении за демократическое управление и произошел коренной перелом в левом крыле американских финнов, причем проигравшие оказались наиболее восприимчивы к «карельской лихорадке». Победители, наоборот, стали более критически относиться к Советскому Союзу, и поэтому следовали за своими социал-демократическими коллегами с тем, чтобы влиться в основной поток рабочего движения и в левоцентристский блок американской политики. Иными словами, они нашли способ остаться и антикапиталистами, и одновременно с этим американизироваться. Теперь мы обратимся к подробному исследованию вышеупомянутых точек зрения и их эволюции в период 1920–30-х годов.
БЛЕСТЯЩЕЕ БУДУЩЕЕ
Две ярких фигуры в борьбе на кооперативном фронте стали главными руководителями Комитета технической помощи: Матти Тенхунен и Оскар Корган. Первый получил свой пост, когда организация только создавалась, в то время как второй занял должность несколько позже. Потерпев неудачу в установлении контроля над КОЦ, они переместились на новые позиции. В этом отношении имеет смысл порассуждать о вариантах карьеры этого дуэта. Финские американские коммунисты знали о том, что они имеют небольшое влияние на коммунистическое движение в Соединенных Штатах. Большая часть руководящего состава постоянно находилась на восточном побережье и включала в себя существенную часть другой группы, сделавшей особый вклад в развитие американского радикализма, – евреев [10; 260]. Финны осознали, что даже большое количество своих рядовых партийных членов не позволят им взять бразды правления в свои руки. Таким образом, шанс попасть на руководящие роли в американскую коммунистическую партию представлялся весьма маловероятным. С другой стороны, учитывая их предшествующие отношения с лидерами Коммунистической партии Финляндии, находящимися в изгнании в Москве, и их продолжающиеся дружественные отношения с КАССР, честолюбивым партийным коммунистам действительно имело смысл решиться на подобный шаг.
Тенхунен стал главным лицом в организации эмиграции в Карелию и в определении условий перемещения, в то время как «Työmies», крупнейшая из радикальных газет, была самым важным источником информации о Карелии. Впоследствии этим стали заниматься и другие газеты, ранее связанные с РПА. В обеспечении идеологической базы, которую предполагалось использовать для содействия переселению в Карелию, были выделены два главных аргумента. Первый заключался в том, что Советский Союз как единственная коммунистическая страна являлся образцом и на правах лидера выдвигал тезис о том, что коммунисты в капиталистическом государстве должны подчиняться его диктату. Второй аргумент, появившийся вскоре после обвала фондовой биржи 1929 года, заключал в себе положение о революции как о явлении постоянном.
Обе эти темы были заявлены в статье «Открытое обращение к финским рабочим в Америке», появившейся в «Työmies» в 1930 году. Она представила положения, которые финские рабочие из Карелии, Ингерманландии и Ленинграда сформулировали 11 июня на встрече в Финском зале просвещения в Петрозаводске. В статье Соединенные Штаты изображались как империалистическая супердержава и заявлялось, что они были главным источником всемирной депрессии, экономического кризиса, приведшего к страданиям миллионов представителей рабочего класса и крестьянства. Из этого кризиса вытекал рост классового сознания, поскольку «рабочий класс был временно ослеплен капиталистической системой и только теперь начинает понимать, какую “свободу” на самом деле ему принес капитализм». Придя к осознанию того, что рабочий класс превратился «в раба [капиталистического] хозяина», он теперь вступает на революционный путь, проложенный Советами, и готов следовать за руководством Коминтерна. Статья не призывала рабочих уезжать из Соединенных Штатов, а вместо этого убеждала их солидаризоваться с рабочим классом Советского Союза, готовясь к дальнейшей революционной борьбе. Существующая опасность была несомненна, поскольку «буржуазия и социальные фашисты готовятся к самой жестокой и кровавой расправе над человечеством, которая была когда-либо отмечена в анналах истории». Статья заканчивалась призывом выполнять цели пятилетнего плана в едином трудовом порыве, который может рассматриваться как предпосылка к появлению стахановского движения [19 (11 July 1931); 4]. Важность выполнения советского пятилетнего плана для американских радикалов была абсолютно несущественной, если бы они оставались дома, однако они могли также принять участие и в развитии Карелии. Вскоре вербовка в Карелию началась всерьез.
Открытое письмо, посланное из Москвы 25 марта 1931 года финскими коммунистами (авторами были, вероятно, Эдвард Гюллинг и Густав Ровио, хотя подписи неразборчивы), было явным призывом к рабочим в Соединенных Штатах и Канаде помочь в преодолении острой нехватки рабочих рук в Карелии [13; 235–238]. Коммунистическая печать в течение следующих нескольких лет отвечала изданием ряда соблазнительных картинок о жизни в Советском Союзе, в одних представляя в ярких красках достижения нации под властью Сталина, а в других акцентируя внимание непосредственно на самой Карелии. В качестве примера первого вида таких «картинок» можно привести работы репортера Л. Маттсона, стремившегося противопоставить крупное сельское хозяйство в Соединенных Штатах и Советском Союзе. Он заявил, что тогда как в капиталистической системе США оно вело к снижению доли мелкого фермерства и большой потере рабочей силы из-за механизации, в Советском Союзе цель состояла в том, чтобы гарантировать каждому члену общества равную оплату труда и саму возможность трудиться. Кроме того, Маттсон утверждал, что советская система скоро докажет свое превосходство в производительности труда и что промышленность будет производить больше тракторов и сельскохозяйственного оборудования, чем американские фабрики [18 (1930); 24–28].
Подобные статьи стали появляться регулярно, извещая о том, что, хотя Советский Союз и вынужден бороться с теми пережитками, которые оставили его далеко позади Запада в экономическом развитии, он вскоре превзойдет экономики капиталистических стран. В подобном ключе, но с более определенной целью в другой статье в «Työmies» заявлялось, что кооперативы в Советском Союзе насчитывают 45 миллионов членов и что «в области кооперативного движения в целом… достижения были гигантские», намного превосходящие достижения кооперативов капиталистических стран. Несомненно, что скрытой целью статьи было освещение кооперативного движения в Соединенных Штатах в целом и КОЦ в частности [19 (8 August 1930); 2].
Некоторые статьи печатались исключительно для того, чтобы реагировать на заявления о социальных проблемах, стоящих перед Советским Союзом. Эта цель ясно просматривалась в отчете, составленном специально для опровержения заявлений «буржуазных и социальных фашистских» газет о страшном голоде в СССР, которые, в свою очередь, были направлены на то, чтобы «посеять сомнения среди рабочего класса по отношению к Советскому Союзу и пробить брешь в революционном движении». Чтобы противостоять такой пропаганде, были процитированы многие некоммунистические деятели, включая корреспондента «New York Times» Гарольда Дэнни и его заключение о том, что он не обнаружил никаких свидетельств того массового голода, о котором так рьяно писали газеты. Другой отзыв был получен от мистера Хикса, бывшего членом британской делегации профсоюзного движения. Хотя он описан как некомму-нист, его пылкий отчет выдает в нем человека, глубоко очарованного советским экспериментом. Он не только не заметил «ни единого признака» голода или обнищания, но «повсюду видел счастливые и улыбающиеся лица, на улицах, в театрах и на спортивных дорожках, где тысячи молодых людей участвовали в спортивных состязаниях. Советская молодежь смотрит в будущее с надеждой, уверенностью и без страха» [20 (15 November 1934); 4].
Говоря непосредственно о Карелии, следует начать с того, что в 1930 году регион праздновал де сятую годовщину основания республики. Воспользовавшись случаем, газета «Työmies» послала коллективные поздравления ее главе, Эдварду Гюллингу, и рабочим региона. Однако помимо освещения различных достижений в экономике, образовании и культуре, в статье также упоминается, что работать в Карелии тяжело и условия для работы бывают очень суровыми [19 (7 August 1930); 5]. Корреспондент, пишущий под псевдонимом Kela, организовал колонку, сравнивая в ней «развивающуюся экономику Советской Карелии и вырождающуюся финскую экономику», в которой, по его утверждению, рабочие, особенно в сельском хозяйстве, стали жертвами «законного грабежа» [19 (10 August 1930); 2]. Точно так же другая статья противопоставила организацию лесных рабочих в Соединенных Штатах и Советском Союзе. Тогда как рабочие в цитадели капитализма были «плохо организованы или не организованы вовсе», в Советской Карелии все было наоборот:
они были хорошо организованы, отстаивали свои интересы не только на рабочем месте, но также в области культуры и образования [19 (30 August 1930); 4].
Статья, появившаяся в «Uusi Kotimaa», была посвящена достижениям в области образования в Карелии. В ней утверждалось, что на 1000 жителей приходится 338 человек, посещающих школу, – цифра значительно более высокая, нежели в любом другом месте в мире. Рост числа учащихся отразил быстрое расширение системы образования с момента возникновения Советского Союза. Количество школ увеличилось менее чем за десятилетие с 346 до 520. В дополнение к школам Карелия также могла похвастаться 138 избами-читальнями, 400 «красными уголками», 97 сельскими библиотеками, 69 кинотеатрами, 103 передвижными установками и 169 передвижными сельскими библиотеками. Автор напоминал читателю, что подобный подъем образования и культуры был возможен лишь в результате Великой Октябрьской революции [20 (21 September 1933); 4].
Этот обзор достижений фактически являлся частью статьи, которая, прежде всего, акцентировала внимание на вопросе национальных меньшинств. Возможно, она была опубликована в ответ на сообщения, которые доходили до сведения финской диаспоры в Америке. В них говорилось о дискриминационном отношении к финнам, которое они испытывали на себе в Советской Карелии. Действительно это имело место или нет, но риторика требовала противопоставить дискриминацию в Карелии аналогичному явлению в Соединенных Штатах и затем сравнить настоящую ситуацию в Карелии с эпохой самодержавия: «Америка – это такая империалистическая страна, которая дискриминирует и порабощает целые народы так же, как и свои собственные меньшинства; она известна своей расовой дискриминацией против негров. Свобода для всех национальных меньшинств не наступит до тех пор, пока не произойдет пролетарская революция. Опыт финнов в Советском Союзе, сравниваемый с гнетом самодержавия, явился импульсом к этим переменам. Финны в Финляндии, Карелии и Ингерманландии подвергались дискриминации в эпоху самодержавия. И хотя Финляндия была освобождена от этого притеснения, финская буржуазия повела рабочие классы путем, неизбежно ведущим в рабство… [Напротив], условия жизни финнов, живущих в советской Карелии и Ингерманландии, улучшаются из года в год» [20 (21 September 1933); 4].
Подобное позиционирование Советского Союза, рисующее радужные перспективы жизни в трудовой республике и противопоставляющее это суровому будущему рабочих, остающихся в Соединенных Штатах, послужило созданию благоприятного фона в СМИ для продвижения миграции в Карелию. Были подняты вопросы о воздействии переселения на левые организа- ции в США. Корреспондент из «Ironwood» (Мичиган) поднял следующий вопрос в «Työmies»: «Как это повлияло на рабочие организации в нашей стране?» Его ответ был таков: «…эмиграция определенно ослабила рабочее движение здесь. Необходимо отметить, что среди уехавших первыми были лидеры наших организаций». Он относится критически к этим лидерам из-за их медлительности и неуверенности, утверждая, что главная возможность поддержать советских рабочих состоит в том, чтобы «усилить борьбу против американского империализма», что в настоящее время пока не удается. Однако позже он сменил тон: «Товарищи, мы должны доверять руководству наших организаций. Мы должны верить в то, что они решат эту дилемму, найдя правильную тактику» [19 (21 November 1931); 2]. Откликом на эту проблему можно посчитать попытки Матти Вика «разрекламировать» Финскую рабочую организацию. Он заявил, что всего за несколько лет членство возросло с 6000 членов до 9231, несмотря на то что 3000 членов иммигрировали в Карелию [18 (1933); 4–6]. Таким образом, массовое переселение в Карелию, разумеется, не подрывало финские организации в Америке и, возможно, даже способствовало стимулированию их роста, предлагая модели коммунистического развития.
Матти Тенхунен всячески стремился к управлению иммигрантской общиной. В статье под названием «Людям, которым нужна Советская Карелия» он старался дать конкретный совет по поводу того, кому стоит задуматься о присоединении к движению, а кому – нет. Он также предоставлял подробную информацию о требованиях, предъявляемых к кандидату на вступление в когорту мигрантов, и об обязанностях тех, кто был туда взят. Тенхунен подчеркивал, что «решение эмигрировать в Карелию не должно сводиться к эмоциональному порыву», заявляя, что регион нуждается в «стойких и уверенных работниках». Он постоянно напоминал, что Карелия – «это не дом отдыха», это не место для кладоискателей и людей, которые стремятся убежать от работы и борьбы. Тенхунен также продолжал обращать внимание на то, что участники сами обязаны оплатить свои затраты на путешествие и должны взять с собой домашнюю утварь и оборудование [19 (22 May 1931); 4]. В последующей статье он изо всех сил старался втолковать потенциальным мигрантам, что Комитет технической помощи заинтересован в квалифицированных рабочих лишь в определенных отраслях хозяйства: лесном и сельском. В прочих работниках в то время потребности не было, и вновь Матти напоминал им: «Мысль о том, что одного только сильного желания эмигрировать в Карелию достаточно для того, чтобы стать настоящим иммигрантом, абсолютно неверна, и всем, кто благосклонно относится к Советской Карелии, стоит это знать» [19 (27 June 1931); 2].
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ДИКТАТУРА
Совершенно другой взгляд на Советский Союз наблюдался в леворадикальных кругах, особенно среди членов профсоюзного движения и большинства кооператоров, остававшихся лояльными по отношению к CCE. Эти люди не были готовы просто принять на веру просоветские заявления о том немыслимом экономическом подъеме, который якобы произошел в связи с приходом к власти большевиков. С другой стороны, в отличие от церковных финнов или социал-демократов, никогда не поддерживавших советский эксперимент, эта своеобразная группировка левых на определенном уровне демонстрировала сочувствие коммунистическим идеям. Однако делали они это одновременно отстраняясь от собственно советского коммунизма.
Как выразился один автор в газете «Industria-listi», общество испытывало сильное желание знать досконально, что происходит с рабочими в трудовой республике, особенно учитывая тот факт, что Великая депрессия вылилась в высокий уровень безработицы, а вместе с этим – в голод и страх лишиться крова и всего имущества. Этот автор отмечал, что Советский Союз, включая Карелию, приковывал к себе внимание не только финноязычной американской коммунистической печати, но и двух газет на финском языке, издаваемых непосредственно в Советском Союзе: ленинградской «Vapaus» и петрозаводской «Punainen Karjala», которые были широко распространены и в Соединенных Штатах. Однако он был разочарован тем, как мало действительно полезной информации из них можно было почерпнуть. Он утверждал, что типичными для этих газет были следующие темы: «Прокламации, речи государственных деятелей, призывы к новой борьбе, данные о посевах, сборе урожая, маслобойнях, ссудах и тому подобных вопросах [наряду с] постоянным требованием об увеличении темпов работы». Среди рабочих всячески поощрялась состязательность – в духе социализма – для того, чтобы выполнять плановые экономические задачи. К сожалению, «ни одного слова не было написано о том, чего же рабочие добились для себя», и, наконец, было совершенно невозможно определить, лучше ли обеспечены рабочие в Советском Союзе, чем их коллеги в капиталистических странах, или нет (Industria-listi , 17 August 1932, p. 2, Minneapolis: Finnish Collection, Immigration History Research Center, University of Minnesota).
Даже если этот автор был готов дать слабую надежду на подъем Советского Союза, тем не менее в самой статье просматривается явный скептицизм. Действительно, быстрый уход от благосклонного отношения к советскому коммунизму в сторону его неприятия явственно следует из кооперативных публикаций. Битва, разыгравшаяся за управление организацией, стала ключевым моментом. До этого из Советского Союза присылали множество сообщений с положительными отзывами, особенно касательно кооперативного движения. С середины 1920-х до 1928 года КОЦ разделял с другими кооперативными организациями убеждение, что советское руководство оценило всю значимость кооперативного движения и поощряло его расширение [3], [4].
Подобное отношение к Советскому Союзу драматически изменилось год спустя. К началу 1930-х годов все чаще изображали конфликт экономической системы последнего с идеалами кооперативного движения и, как следствие, называли антидемократическим. В 1932 году в «Ежегоднике кооперативной лиги» была опубликована заметка некоего доктора Дж. П. Во-бэйсса, который сопоставил три пути ведения дел в экономике: 1) система прибыли; 2) государственный социализм; 3) кооперация. Если раньше кооперативное движение – особенно в силу того, что в нем видели помощь социализму, – просто противопоставляли капитализму, то теперь его отделили и от коммунизма, или «государственного социализма», в формулировке Вобэйсса. Он критически относился не только к эксплуатационному характеру капитализма, но и к чрезвычайно бюрократическому, централизованному подходу коммунизма к принятию решений. Кооперация предполагала как отсутствие материальной заинтересованности в получении прибыли, так и существование централизованной экономики. Это сделало возможным появление «системы, в которой люди, независимые от государства и политики, удовлетворяют свои личные потребности» [2 (1932); 30].
Непосредственное отношение к проблеме имеет отчет о ежегодной встрече членов КОЦ 1931 года, на которой небольшую группу членов Коммунистической партии попросили выступить со своей программой. Им дали десять минут на то, чтобы представить свою позицию. В результате они «излили неистовый поток оскорблений…». Во время же выступления Эскеля Ронна коммунисты неоднократно перебивали его. Лишенные своей былой силы, они стали играть в политической жизни страны столь малую роль, что подобная тактика оставалась одним из немногих доступных им способов борьбы.
Этот инцидент продемонстрировал несогласие большинства левых, присоединившихся к КОЦ, с мнением о том, что только Коммунистическая партия могла быть единственным рупором радикализма. Это отнюдь не означало, что левые оставили свои радикальные воззрения ради политики умиротворения, обычно ассоциируемой с социал-демократами. Так, в том же году от сердечной болезни в возрасте 37 лет умер Эскель Ронн. Упоминая последнего в некрологе, напечатанном в справочнике оптовой кооперативной торговли, как «товарища Ронна», его автор заявляет, что движение твердо намерено свергнуть капитализм: «Мы оплакиваем Эскеля Ронна как товарища и друга, и даже больше, мы ценим его за великое мужество в служении нашему общему делу, за освобождение рабочего класса и приближение лучшего общественного строя. Цивилизация, которую называют капитализмом, приведет членов эксплуатируемого класса к лишениям, как раз когда жизнь должна быть в своем расцвете, и лучшие сыны рабочего класса продолжат приносить в жертву свое здоровье и жизнь, пока борьба за свободу не будет завершена» [6; 132].
Таким образом, те, кто победил в сражении за управление кооперативами, оставались преданными антикапиталистическому взгляду на мир и не собирались заключать с капитализмом перемирие. Кооперативное движение неизменно оставалось верным демократическим принципам. В ходе его развития вновь и вновь вспыхивали дискуссии по вопросам демократии. К началу 1930-х годов стало ясно, что кооперативное движение начало позиционировать Советский Союз как оплот антидемократических сил. Это перекликалось с более ранней критикой, которая, в свою очередь, утверждала, что данный режим был излишне бюрократическим.
Попытка определить специфику советской экономической модели нашла отражение в выделении четырех альтернативных экономических систем, существующих в то время: 1) регулируемый капитализм; 2) корпоратизм; 3) коммунизм и 4) кооперация. Они проявились не только в виде различного отношения к Великой депрессии, но и в виде определенных подходов к экономике с разными взглядами на проблемы обеспечения производительности, распределения товаров и услуг, а также их отношения к демократии. Следует отметить, что капитализм, корпоратизм и коммунизм были представлены отдельными странами: Соединенные Штаты были образцом регулируемого капитализма, фашистские правительства Германии и Италии являлись моделями корпоратизма, а Советский Союз оставался единственным образчиком коммунизма. В рамках этой типологии советский тип представлял собой политическую диктатуру и поэтому был весьма далек как от демократических установлений, так и от кооперативных идеалов. Кооперативное движение, таким образом, пересмотрело свое предшествующее отношение к коммунизму, поскольку стало ясно, что один-единственный столп коммунизма в отдельно взятом государстве ставит под угрозу основы демократии [1; 68–69].
Пять лет спустя, накануне Второй мировой войны, Вобэйсс больше не стремился отделить советский коммунизм от немецкого и итальянского корпоратизма. Они все представляли собой проявления фашизма, и, таким образом, их отношение к кооперативному движению оказывалось неизбежно враждебным: «Фашизм не приемлет демократию. Эти два режима являются несовместимыми. По этой причине всякий раз, когда автократия устанавливает свой режим, кооперативы в эту ситуацию не вписываются. Правительства России, Италии и Германии осуществили попытку устранения кооперативов [в соответствующих странах]» [2 (1939); 9].
Этот неприглядный портрет Советского Союза был дополнен растущим убеждением в том, что революция на Западе была в ближайшем будущем крайне маловероятна. Таким образом, к концу этого бурного десятилетия финские коммунисты в Америке, настроенные лояльно к Советскому Союзу, потеряли свое влияние. С самого начала поддержанная ими миграция в Карелию подверглась осуждению со стороны религиозных финнов и социал-демократов [10; 374]. Менее чем десятилетие спустя сторонники большевизма также были отвергнуты своими ближайшими политическими союзниками на левом фланге, все более склонявшимися к упрочению своих связей с Соединенными Штатами. Они не прекращали критику капитализма, однако активно стремились найти способы усовершенствовать его, избежав революции.
(Пер. с англ. П. Миханова)
(Библиографическое описание использованных источников и литературы печатается в авторской редакции. – Прим. ред .)
Список литературы Реакция на переселение: ответ американских финнов на «карельскую лихорадку»
- Cooperation, Vol. XX, No 5, 1934: Minneapolis: Finnish Collection, Immigration History Research Center, University of Minnesota.
- The Cooperative League Yearbook, 1932-1939: Minneapolis: Finnish Collection, Immigration History Research Center, University of Minnesota.
- The Cooperative Pyramid Builder, Vol. I, No 2, 1926: «Cooperation in the Soviet Union», pp. 70-71. Minneapolis: Finnish Collection, Immigration History Research Center, University of Minnesota.
- The Cooperative Pyramid Builder, Vol. III, No 3, 1928: «American Labor Delegation to Russia», p. 50. Minneapolis: Finnish Collection, Immigration History Research Center, University of Minnesota.
- The Cooperative Pyramid Builder, Vol. VI, No 1, 1931: «What It’s All About», pp. 2-16. Minneapolis: Finnish Collection, Immigration History Research Center, University of Minnesota.
- The Cooperative Pyramid Builder, Vol. VI, No 5, 1932: «Eskel Ronn is Dead», pp. 131-132. Minneapolis: Finnish Collection, Immigration History Research Center, University of Minnesota.
- Draper, Theodore, 1957: The Roots of American Communism. New York: Viking Press.
- Hoglund, A. William, 1960: Finnish Immigrants in America, 1880-1920. Madison: University of Wisconsin Press.
- Hummasti, P. George, 1977: «World War I and the Finns of Astoria, Oregon: The Effects of War on an Immigrant Community». International Migration Review, 11(3): 334-349.
- Karni, Michael, 1975: Yhteishyva -Or, For the Common Good: Finnish Radicalism in the Western Great Lakes Region, 19001940. PhD dissertation, University of Minnesota.
- Kivisto, Peter, 1984: Immigrant Socialists in the United States: The Case of Finns and the Left. Rutherford, NJ: Fairleigh Dickinson University Press.
- Kivisto, Peter, 2003: «Social Spaces, Transnational Immigrant Communities, and the Politics of Incorporation». Ethnicities, 3(1): 5-28.
- Klehr, Harvey, John Earl Haynes, and Kyrill M. Anderson. 1998. The Soviet World of American Communism. New Haven, CT: Yale University Press.
- Kostiainen, Auvo, 1977: «The Tragic Crisis: Finnish-American Workers and the Civil War in Finland», pp. 217-235 in For the Common Good, edited by Michael Karni and Douglas Ollila. Superior, WI: Tyomies Society.
- Kostiainen, Auvo, 1978: The Forging of Finnish-American Communism, 1917-1924. Turku, Finland: Migration Institute.
- Levitt, Peggy and B. Nadya Jaworsky, 2007: «Transnational Migration Studies: Past Developments and Future Trends». Annual Review of Sociology, 33: 129-156.
- Pogorelskin, Alexis E., 2004: «Communism and Co-ops: Recruiting and Financing the Finnish-American Migration to Karelia». Journal of Finnish Studies, 8(1): 28-47.
- Punatahti, 1930-1933: Minneapolis: Finnish Collection, Immigration History Research Center, University of Minnesota.
- Tyomies, 1925-1935: Minneapolis: Finnish Collection, Immigration History Research Center, University of Minnesota.
- Uusi Kotimaa, 1929-1934: Minneapolis: Finnish Collection, Immigration History Research Center, University of Minnesota.